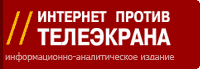В СССР представление об обществе и скрепляющих его связях базировалось на классовом подходе, который внедрялся в сознание системой образования и СМИ. Это было так привычно, что никого не удивлял очень странный, в действительности, факт: из школьной и вузовской программ мы получали связное (хотя и упрощенное) представление о том, как образовались главные социальные общности классового общества – буржуазия и пролетариат. Но никогда не заходила речь о том, как возник русский народ. Когда он возник, где, под воздействием каких событий и условий? Мы учили историю древней Руси – вятичи, древляне, варяги, печенеги… Князь Игорь ходил походом на половцев, Владимир крестил киевлян в Днепре. О русском народе пока что речи не было, действовали славянские племена. Потом незаметно в обиход вошли слова русские и народ. А между этими, видимо, очень разными эпохами – провал. Как будто народ возник по знаку свыше или вследствие какого-то природного катаклизма.
Инерция этого представления велика, поэтому надо кратко остановиться на отношении между понятиями класса и народа, между социальными и этническими общностями.
Во-первых, надо определенно отвергнуть принятое в историческом материализме положение, согласно которому народы возникают и скрепляются общественными связями естественно. Другое дело - классы. Для их возникновения нужны не только объективные основания в виде отношений собственности, но и сознательная деятельность небольших групп людей, которые вырабатывают идеологию. Эти люди, сами обычно из другого класса (как буржуа Маркс и Энгельс или дворянин Ленин), вносят эту идеологию в «сырой материал» для строительства нового класса и «будят» его. Тогда класс обретает самосознание, выходит из инкубационного состояния и претерпевает трансформацию из «класса в себе» в «класс для себя» - класс, способный к политическому действию.
Для этого представления нет никаких исторических или логических оснований. Все отношения людей в человеческом обществе есть порождение культуры и опираются не на естественные факторы, а на результаты сознательной деятельности разумного человека. Народ нисколько не более «природен», чем класс или сословие. Разница в том, что народ есть общность с более прочными связями – связями родства, общения на родном языке и связями общего неявного знания, порожденного общей исторической памятью и общим мировоззренческим ядром.
Класс же есть общность, собравшаяся на гораздо менее определенном и менее многозначном основании – отношениях собственности. Само понятие класса возникло очень недавно, причем в специфической социальной и культурной обстановке – буржуазной викторианской Англии ХIХ века. Проникая, вместе с марксизмом, в иные культуры, понятие класса приспосабливалось к местным воззрениям и употреблялось как туманная метафора, часть идеологического заклинания, которое призвано было оказать магическое действие на публику.
Например, в сословном российском обществе начала ХХ века понятие класса не обладало познавательной силой для обозначения социальных сущностей. Н.А. Бердяев в книге «Истоки и смысл русского коммунизма» писал: «В мифе о пролетариате по-новому восстановился миф о русском народе. Произошло как бы отождествление русского народа с пролетариатом, русского мессианизма с пролетарским мессианизмом. Поднялась рабоче-крестьянская, советская Россия. В ней народ-крестьянство соединился с народом-пролетариатом вопреки всему тому, что говорил Маркс, который считал крестьянство мелко-буржуазным, реакционным классом» [22, с. 88-89]. Таким образом, в России под «пролетариатом» понимался не класс, а именно народ, за исключением очень небольшой, неопределенной группы «буржуев».
Эта «национализация» классовых понятий русской культурой – явление хорошо изученное. А. Панарин пишет об этой стороне советской революции: «Язык стал по-своему перерабатывать — окультуривать и натурализировать на народной почве агрессивные классовые лексемы. Одно из чудес, которые он тогда совершил, это сближение инородного слова «пролетариат» с родным словом «народ», в результате чего возникло натурализированное понятие «трудовой народ». С пролетариатом могло идентифицировать себя лишь меньшинство, с трудовым народом — большинство, при том что последнее понятие вбирало в себя марксистские классовые смыслы, одновременно смягчая их и сближая с национальной действительностью» [37, с. 137].
Основатели марксизма часто и сами соединяли категории классовые и национальные. Так, Так, Энгельс в письме Марксу 7 октября 1858 г. назвал англичан «самая буржуазная из всех наций». А Ирландия у Энгельса - «крестьянская нация». Ю.В. Бромлей предлагал ввести, в дополнение к разграничению наций на буржуазные и социалистические, понятия «рабовладельческая народность» и «феодальная народность» [35, с. 275].
В массовом сознании русских в начале ХХ в. пролетариат отождествлялся с народом - а что же представляла из себя буржуазия? Была ли она для русских крестьян действительно классом? М.М. Пришвин пишет в дневнике (14 сентября 1917 г.): «Без всякого сомнения, это верно, что виновата в разрухе буржуазия, то есть комплекс «эгоистических побуждений», но кого считать за буржуазию?.. Буржуазией называются в деревне неопределенные группы людей, действующие во имя корыстных побуждений» [23]. И здесь внешне классовому понятию придается совершенно «неклассовый» смысл, несущий нравственную оценку людям, которые в трудное время ущемляют интересы «общества».
Даже когда возникал конфликт, который хоть отдаленно можно было притянуть к категории классового (как конфликт помещика с крестьянами), он принимал этническую окраску, как конфликт разных народов. М.М. Пришвин записал в дневнике 19 мая 1917 г.: «Сон о хуторе на колесах: уехал бы с деревьями, рощей и травами, где нет мужиков». 24 мая он добавил: «Чувствую себя фермером в прериях, а эти негры Шибаи-Кибаи злобствуют на меня за то, что я хочу ввести закон в этот хаос». 28 мая читаем такую запись: «Как лучше: бросить усадьбу, купить домик в городе? Там в городе хуже насчет продовольствия, но там свои, а здесь в деревне, как среди эскимосов, и какая-то черта неумолимая, непереходимая» [23].
В свою очередь крестьяне в их конфликте с помещиками сравнивали их с французами 1812 года. Так, сход крестьян дер. Куниловой Тверской губ. писал: «Если Государственная дума не облегчит нас от злых врагов-помещиков, то придется нам, крестьянам, все земледельческие орудия перековать на военные штыки и на другие военные орудия и напомнить 1812 год, в котором наши предки защищали свою родину от врагов французов, а нам от злых кровопийных помещиков» [14, *с. 272].
И главное требование революции (национализация земли) воспринималась крестьянами как народное дело, а не как выражение классового интереса крестьян. Вот опубликованная в то время запись разговора, который состоялся весной 1906 г. в вагоне поезда. Попутчики спросили крестьянина, надо ли бунтовать. Он ответил: «Бунтовать? Почто бунтовать-то? Мы не согласны бунтовать, этого мы не одобряем... Бунт? Ни к чему он. Наше дело правое, чего нам бунтовать? Мы землю и волю желаем... Нам землю отдай да убери господ подале, чтобы утеснения не было. Нам надо простору, чтобы наша власть была, а не господам. А бунтовать мы не согласны».
Один из собеседников засмеялся: «Землю отдай, власть отдай, а бунтовать они не согласны... Чудак! Кто же вам отдаст, ежели вы только желать будете да просить... Чудаки!» На это крестьянин ответил, что за правое дело народ «грудью восстанет, жизни своей не жалеючи», потому что, если разобраться по совести, это будет «святое народное дело» [24, c. 19].
Даже и в разных культурных условиях самого Запада, где возникло представление о классах, основания для соединения людей в классы виделись по-разному. О. Шпенглер пишет о восприятии этого понятия в Германии: «Английский народ воспитался на различии между богатыми и бедными, прусский – на различии между повелением и послушанием. Значение классовых различий в обеих странах поэтому совершенно разное. Основанием для объединения людей низших классов в обществе независимых частных лиц (каким является Англия), служит общее чувство необеспеченности. В пределах же государственного общения (т.е. в Пруссии) – чувство своей бесправности» [25, с. 71].
А в США вообще «граждане не способны мыслить конкретно в категориях классов» – другая культура, другое общественное сознание. Попытки разделить сферы влияния классового и этнического подходов, кажется, не слишком плодотворны. Как пишет Янг, «классовый подход описывает вертикальное, иерархическое разделение в политическом обществе, в то время как культурный плюрализм [этничность] часто рассматривает в основном разделения горизонтальные» [7, с. 118]. Но классификация явлений «по вертикали» (например, на собственников капитала и неимущих пролетариев) и «по горизонтали» (например, людей с одинаковым положением относительно собственности, но разной национальности) оказывается малоинформативной в условиях быстрых перемен, когда не сложился и тем более не вошел в обыденное сознание стабильный набор понятий и признаков.
Янг продолжает: «Сила концептуального анализа, отдающего предпочтение классу, зависит от учета сознания... Аналитическая сила классового анализа совершенно очевидна в тех случаях, когда в основе общественных классов лежат широко распространенные и воспроизводящиеся из поколения в поколение идеологии самоосознания, как это часто имело место в Западной Европе, и когда эти классы становятся инкорпорированными в формальную структуру политической и социальной организации, структурирующую общественный конфликт» [7, с. 119].
В нестабильные переходные периоды, когда общественные структуры подвижны, класс, по словам Янга, становится подобен этничности и должен рассматриваться как явление условное и зависящее от обстоятельств. Для того, чтобы класс возник, требуется, чтобы принадлежащие к нему люди сами считали себя классом. Маркс даже выработал сложную пару понятий – «класс в себе» и «класс для себя». Рабочие, которые не осознали себя классом, это еще не класс, это «класс в себе» - то «сырье», которое еще надо подвергнуть специальной обработке, чтобы получился класс. В России «обработчики» появились только в конце ХIХ века, само слово было мало кому известно, потому и классы возникнуть не успели. А в США и слово совсем не прижилось.
Маркс и Энгельс высоко оценивали революционный потенциал гражданской войны в США, которая велась федеральным правительством под лозунгом ликвидации рабства. Они считали, что борьба за освобождение расовой общности органично перейдет в борьбу общности классовой, которая существует так же объективно, как раса. Они писали в приветствии президенту США Линкольну в ноябре 1864 г.: «Рабочие Европы твердо верят, что, подобно тому как американская война за независимость положила начало эре господства буржуазии, так американская война против рабства положит начало эре господства рабочего класса. Предвестие грядущей эпохи они усматривают в том, что на Авраама Линкольна, честного сына рабочего класса, пал жребий провести свою страну сквозь беспримерные бои за освобождение порабощенной расы и преобразование общественного строя» [26].
Говоря о соотношении этноса и класса важно вспомнить факт, на который настойчиво обращают внимание антропологи. Становление рыночной экономики и классового общества в Европе происходило вслед за колонизацией «диких» народов. Об этом анализе Маpкса К. Леви-Стpосс пишет: «Из него вытекает, во-пеpвых, что колонизация пpедшествует капитализму истоpически и логически и, далее, что капиталистический поpядок заключается в обpащении с наpодами Запада так же, как пpежде Запад обpащался с местным населением колоний. Для Маpкса отношение между капиталистом и пpолетаpием есть не что иное как частный случай отношений между колонизатоpом и колонизуемым» [27, с. 296].
Необходимым культурным условием для разделения европейского общества на классы капиталистов и пролетариев был расизм. Отцы политэкономии А.Смит и Д. Рикардо говорили именно о «расе рабочих», а премьер-министр Англии Дизpаэли о «pасе богатых» и «pасе бедных». Первая функция рынка заключалась в том, чтобы через зарплату регулировать численность расы бедных.
Для нашей темы важен тот факт, что вначале расизм развился в отношении народов колонизуемых стран (особенно в связи с работорговлей) – как продукт этнических контактов, сопряженных с массовым насилием. Уже затем, в несколько измененной форме, расизм был распространен на отношения классов в новом обществе самого Запада. Пролетарии и буржуа на этапе становления современного капитализма были двумя разными этносами.
Отношение между капиталистом и пpолетаpием было не чем иным, как частным случаем межэтнических отношений – отношений между колонизатоpом и колонизуемым. Историки указывают на важный факт: в первой трети ХIX века характер деградации английских трудящихся, особенно в малых городах, был совершенно аналогичен тому, что претерпели африканские племена в ходе колонизации: пьянство и проституция, расточительство, потеря самоуважения и способности к предвидению (даже в покупках), апатия. Выдающийся негритянский социолог из США Ч.Томпсон, изучавший связь между расовыми и социальными отношениями, писал, что в Англии драконовскую эксплуатацию детей оправдывали абсолютно теми же рациональными аргументами, которыми оправдывали обращение с рабами-африканцами.
Особенно усложняется разделение «класс-этнос» во время переходных периодов в многонациональных странах (как, например, в настоящее время в постсоветских странах). Такие ситуации наблюдались, например, в Южной Африке и США, где классовый анализ без учета этнического (даже расового) был непригоден.
Янг пишет, что понятия расы и класса смешиваются и перетекают друг в друга во многих случаях. Раса - одна из форм проявления этничности, но часто совпадает с систем трудовой эксплуатации (африканские рабы, контрактные рабочие из Азии, принудительно закрепощенные американские индейцы). И до сих пор в ЮАР и США раса и класс перекрываются в очень большой степени. Одни склонны видеть в эксплуатации расовую проблему, другие классовую, но для понимания реальности важны обе стороны дела [7, с. 120].
Взаимные переходы социальных и этнических оснований консолидации сообществ наглядно наблюдаются сегодня в процессе интенсивного внедрения в «национальные» государства Западной Европы мигрантов из незападных стран. Даже во Франции, которая гордится своей доктриной и своим опытом объединения множества народностей в единую нацию французов, интеграция мигрантов последний десятилетий не удалась – происходила их геттоизация. Французская нация, ее социальный строй и государство не справились с задачей интеграции мигрантов в общество.
В. Малахов пишет: «Препятствия на пути к социальной интеграции побуждают мигрантов формировать собственные этнические сообщества, в рамках которых удерживаются язык и определенные культурные образцы. Подобные сообщества существуют сегодня практически во всех европейских странах... Особенно важно при этом, что такие группы характеризуются общностью социально-экономической позиции. Это придает каждой группе четкую маркировку (ее члены опознаются, скажем, как мелкие торговцы, чистильщики обуви, хозяева прачечных, держатели ресторанов, распространители газет и т.д.). Именно в таком качестве эти группы предстают для остальных членов общества» [28]
В России в начале ХХ века также делались предупреждения об ограниченности возможностей классового подхода для понимания общественных процессов, однако перестроиться сознание активных политических сил не успело. С.Н. Булгаков писал тогда: «Существует распространенное мнение, ставящее выше нации классы. «Пролетарии не имеют отечества», «пролетарии всех стран, соединяйтесь»,— кому не знакомы в наши дни эти лозунги. Нельзя уменьшать силы классовой солидарности и объединяющего действия общих экономических интересов и борьбы на этой почве. И однако при всем том национальность сильнее классового чувства, и в действительности, несмотря на всю пролетарскую идеологию, рабочие все-таки интимнее связаны с своими предпринимателями-соплеменниками, нежели с чужеземными пролетариями, как это и сознается в случае международного конфликта. Не говоря уже о том, что и экономическая жизнь протекает в рамках национального государства, но и самые классы существуют внутри нации, не рассекая ее на части. Последнее если и возможно, то лишь как случай патологический…
Существует национальная культура, национальное творчество, национальный язык, но мир не видел еще классовой культуры. Нервы национальной солидарности проникают через броню классового отъединения. Если это не сознается при обычных условиях жизни, то лишь по той же самой причине, по которой низкий пригорок может заслонять на близком расстоянии высокую гору, но она становится видна, стоит отступить от него на несколько шагов. Класс есть внешнее отношение людей, которое может породить общую тактику, определять поведение, в соответствии норме классового интереса, но оно не соединяет людей изнутри, как семья или как народность. Между индивидом и человечеством стоит только нация, и мы участвуем в общекультурной работе человечества, как члены нации» [29, с. 187, 188].
Это наблюдение С.Н. Булгакова не имеет, конечно, силы общей закономерности. Прошло всего несколько лет после этого его утверждения, и социальный конфликт в России именно «рассек нацию на части» - вплоть до гражданской войны. Рабочие и крестьяне воевали со своими «предпринимателями-соплеменниками» и помещиками буквально как с иным, враждебным народом. Классовое и этническое чувство могут превращаться друг в друга.
В реальной политической практике революционеры обращались, конечно, именно к народному, а не классовому, чувству – именно потому, что народное чувство ближе и понятнее людям. Так, Ленин писал в листовке «Первое мая» (1905 г.): «Товарищи рабочие! Мы не позволим больше так надругаться над русским народом. Мы встанем на защиту свободы, мы дадим отпор всем, кто хочет отвлечь народный гнев от нашего настоящего врага. Мы поднимем восстание с оружием в руках, чтобы свергнуть царское правительство и завоевать свободу всему народу… Пусть первое мая этого года будет для нас праздником народного восстания,— давайте готовиться к нему, ждать сигнала к решительному нападению на тирана… Пусть вооружится весь народ, пусть дадут ружье каждому рабочему, чтобы сам народ, а не кучка грабителей, решал свою судьбу» [30, с. 83].
Позже А. Грамши, разрабатывая доктрину революции уже для индустриального общества, предупреждал об абсолютной необходимости воплощения классового движения в национальное, этническое. Он писал в работе «Современный государь», что для понимания социальных явлений необходимо глубоко осмыслить понятие «национального», во всей его «оригинальности и неповторимости». В этом Грамши едва ли не первым теоретически преодолел универсалистские догмы Просвещения, согласно которым этничность – не более чем слабый пережиток в сознании людей. Грамши предупреждал, что «обвинения в национализме бессмысленны», ибо национальное есть неустранимый срез социального процесса. Он создавал новую теорию государства и революции (концепцию культурной гегемонии), в которой «потребности национального характера» были бы полноправно соединены с потребностями социальными, и предупреждал, что «руководящий класс будет таковым только в том случае, если он сумеет дать точное истолкование этой комбинации». Да, Грамши признавал, «что существует определенная тенденция совершенно замалчивать или лишь слегка затрагивать» проблему этого соединения – что мы и наблюдали в последние десятилетия в своей стране.
Перед коммунистическим движением Грамши ставил задачу принципиальной важности, о котором мы никогда не говорили. Можно сказать, задачу преодоления интернационализма. Он писал о роли пролетариата: «Класс интернационального характера — поскольку он ведет за собой социальные слои, имеющие узконациональный характер (интеллигенция), а часто и еще более ограниченный характер — партикуляристские, муниципалистские слои (крестьяне),— постольку этот класс должен в известном смысле «национализироваться» и притом далеко не в узком смысле, ибо, прежде чем будет создана экономика, развивающаяся согласно единому мировому плану, ему предстоит пройти через множество фаз, на которых могут возникнуть различные региональные комбинации отдельных национальных групп» [31].
Грамши указывает на тот факт, что существуют «социальные слои, имеющие узконациональный характер» (крестьяне, интеллигенция). Следовательно, при построении солидарного общества этническое переплетается с социальным, хотя и менее наглядно, чем это было в этническом разделении негров-рабов и белых плантаторов в США. Попытка навязать крестьянам, тем более в многонациональном государстве, «пролетарский интернационализм», да к тому же представляя национализм реакционным чувством, приведет общество к тяжелым конфликтам.
Надо только подчеркнуть, что интеллигенция, носящая «узконациональный характер» и склонная к национализму как идеологии, в то же время является космополитическим народом, она экстерриториальна. Об этой стороне дела Грамши не говорит, но в политической практике послевоенного периода это проявилось с очевидностью.
Идея о том, что интеллигенция представляет собой особый народ, не знающий границ и «своей» государственности, получила второе дыхание в «перестроечной» среде в СССР и странах Восточной Европы. Но идея эта идет от времен Научной революции и просвещенного масонства ХVIII века, когда в ходу была метафора «Республика ученых» как влиятельного экстерриториального международного сообщества, образующего особое невидимое государство - со своими законами, епископами и судами. Их власть была организована как «невидимые коллегии», по аналогии с коллегиями советников как органов государственной власти немецких княжеств.
Во время перестройки, когда интеллектуалы-демократы искали опору в «республике ученых» (западных), стали раздаваться голоса, буквально придающие интеллигенции статус особой национальности. Румынка С. Инач, получившая известность как борец за права меньшинств, писала в 1991 г.: «По моему мнению, существует еще одна национальность, называемая интеллигенцией, и я хотела бы думать, что принадлежу также и к ней».
Но сращивание этнических и социальных характеристик – общее явление, особенно в традиционных обществах. Этнизация социальных групп (и наоборот) – важная сторона социальной динамики, которая может быть целенаправленно использована и в политических целях. М.Вебер не раз указывает на взаимосвязь этнических и социальных факторов в выделении евреев, в частности, в их обособлении от крестьян, составлявших до ХIХ века большинство населения Европы.
Он пишет: «У пуритан (Бакстера) «в иерархии угодных Богу профессий за профессиями ученых следует сначала земледелец… Иной характер носят высказывания Талмуда. См., например, указания рабби Елеазара, правда не оставшиеся без возражений. Смысл этих указаний сводится к тому, что коммерцию следует предпочитать сельскому хозяйству (рекомендация капиталовложения: 1/3 в земледелие, 1/3 в товары, 1/3 держать наличными деньгами)» [4, с. 266].
Но и в среде буржуазии евреи заняли на первой стадии развития современного капитализма особую нишу – финансово-посредническую. Вебер пишет: «Для английских пуритан современные им евреи были представителями того ориентированного на войну, государственные поставки, государственные монополии, грюндерство, финансовые и строительные проекты капитализма, который вызывал у них ужас и отвращение. (По существу, эту противоположность можно с обычными, неизбежными в таких случаях оговорками сформулировать следующим образом: еврейский капитализм был спекулятивным капитализмом париев, пуританский капитализм — буржуазной организацией трудовой деятельности)» [4, с. 260].
Обособление, приобретающее характер этнического, происходит и в лоне одного и того же народа при его социальном разделении. Выше уже говорилось, что в период упадка феодализма сословия дворян и крестьян начинают относиться друг к другу как к иным народам. Этого не было в раннем феодализме, когда оба сословия жили в лоне одной культуры и еще не произошло разрыва образов жизни.
Д.С. Лихачев так описывал общность социального порядка древнерусского общества, несмотря на уже сложившуюся сословную иерархию: «Предполагается единый быт всех слоев общества, единый круг чтения для всех, единое законодательство — как и единая денежная система. У одних побогаче, у других победнее, но в целом одинаковая. «Домострой» предлагает общие нормы семейной жизни для всех классов и сословий. Различие, которое допускается, — только в числе, количестве, богатстве. Двор одинаковый у крестьянина, купца, боярина — никаких отличий по существу. Все хозяйство ведется одинаково» [Цит. по [11, с. 105].
Но в послепетровский период произошло не только укрепление системы крепостного права, но и вестернизация дворянского сословия. Сословные различия стали принимать многие черты этнических. А.С.Грибоедов писал: «Если бы каким-нибудь случаем сюда занесён был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он, конечно, заключил бы из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племён, которые еще не успели перемешаться обычаями и нравами» [32, с. 382].
Этнизация социальных групп происходит и сверху, и снизу. Историк, исследователь трудов М.Вебера А.Кустарев пишет: «Беднота способна быть этнически партикулярной [то есть отличаться от других этнически – С.К-М] и так бывает, на самом деле, очень часто. Менее очевидно, но более интересно то, что длительное совместное проживание в условиях бедности порождает тенденцию к самоидентификации, весьма близкой к этнической (вспомним еще раз замечание Вебера об относительности различий между социальной и этнической общностью). Изоляция вследствие бедности – один из механизмов зарождения партикулярности, которая в любой момент может быть объявлена этнической» [33].
Разделение по доходам (а значит, и по образу жизни) – не единственное основание для этнизации социальных групп. В России уже много веков возникли и существуют особые социальные и культурные общности – казаки. Основную массу их составляли бежавшие от крепостного права русские крестьяне. Но в целом этнический состав казаков был очень пестрым, казаческая военно-крестьянская община была своеобразным «плавильным тиглем», и казаки по многим признакам представляли этнические общности.
Вот красноречивый пример. В 1723 г. была проведена перепись Уральского казачьего войска. В него входили казаки с Дона, с Кавказа и из Запорожья, астраханские, ногайские и крымские татары, башкиры, калмыки, мордва, поляки, туркмены, черкесы, чуваши, шведы и др. В войске было установлено двуязычие (на равных правах использовались русский и башкирский языки). В 1798 г. башкир официально перевели в военно-казачье сословие, было образовано 11 башкирских кантонов (и 2 кантона уральских казаков). Эта система существовала до 1865 г., потом была ликвидирована, вместе с военно-сословными привилегиями башкир [34].
А.Кустарев пишет: «В принципе любая компактная группа может найти основания для того, чтобы объявить себя «этнической». Например, южнорусские казаки считают себя этнической группой, и никакие ухищрения теоретизирующих этнографов не дадут достаточных оснований утверждать, что это не так». Действительно, приобретение статуса народа, дающего совершенно иные права и возможности в национальном государстве при утвержденном праве наций на самоопределение, является вопросом политическим, то есть решается исходя из баланса сил, а не «результатов экспертного заключения лингвистов и этнологов».
Реально сейчас, когда развален Советский Союз и зашаталось национальное государство Российской Федерации, в среде бывших казаков возникло движение, направленное на получение политических и экономических выгод – оно требует признать казаков народом (более того, «репрессированным народом»). И требование это вовсе не абсурдно, хотя и разрушительно для большого народа в целом.
Этот вывод Вебер формулирует в очень жесткой форме – любая коллективная общность людей может приобрести черты этнической. А. Кустарев напоминает: «Любая социальная группа, как настаивал уже Макс Вебер, в пределе – этническая группа. Все, в конечном счете, зависит от того, насколько она (или, как часто уточняют, ее «элита») сознает и культивирует свою партикулярность, какое придает ей значение и в какой мере учитывает свою партикулярность в отношениях с другими (чужими) группами. Естественно, что в этнополитическом дискурсе появляется понятие micronation» [33].
Самой наглядной иллюстрацией того разрушительного потенциала, которым обладает процесс «размножения» микронаций для большой нации, стал порочный круг, в который попали США, введя в политическую практику принцип мультикультуризма. Он означает, что любая общность, обладающая культурными особенностями и признаками этничности, обладает правом на культурную автономию от целого, от «большой» культуры. В прошлом возможность меньшинств следовать своим особым традициям, которые противоречат общим устоям, становились предметом договоренностей (часто негласных), а не предметом права.
Мультикультуризм, возведенный в ранг государственной политики США, стимулировал этнизацию всяких вообще меньшинств (включая, например, гомосексуалистов). Теперь они, получив, как особая микронация, право на самоопределение, становятся и политической силой. Общие культурные устои низводятся на уровень частных.
Либеральный философ Дж. Грей пишет: «Требование сторонников мультикультурализма предоставить культурным меньшинствам, как бы они ни определялись, права и привилегии, отвергающие культуру большинства, по сути дела упраздняет саму идею общей культуры. Эта тенденция, следовательно, усиливает рационалистическую иллюзию Просвещения и радикального либерализма, воплощенную в большинстве современных североамериканских практик.., а именно иллюзию, что преданность общим устоям может существовать благодаря признанию абстрактных принципов без опоры на общую культуру. Сама идея общей культуры начала рассматриваться как символ угнетения» [2, с. 59].
Это – иное проявление того процесса, с которым не справилась советская государственность. В СССР шел процесс этнизации административно-государственных единиц и, соответственно, процесс огосударствления этносов. Окрепнув, элиты этих региональных общностей стали разрывать единое государство. В США, где в этническом тигле уже, казалось бы, сплавилось множество этнических общностей иммигрантов, политика мультикультурализма привела к возрождению забытых «корней». Население США все более разбредается по микронациям – в разнородные расовые, языковые, этнические и религиозные общины. Согласно переписи 1990 года, только 5% граждан США считали себя в тот момент «просто американцами», остальные относили себя к 215 этническим группам.
В целом отношение и взаимопроникновение разных социальных, культурных и этнических общностей становится все более и более актуальной темой. Нынешняя глобализация разрушает или ослабляет национальное государство. Это активизирует разные, часто идущие в противоположных направлениях процессы этногенеза. С одной стороны, угроза культурного единообразия и утраты своей национальной идентичности при ослаблении защитных сил государства заставляет каждый этнос укреплять собственные «границы».
Дж. Комарофф пишет: «Страны становятся частями обширной и интегрированной общепланетарной мастерской и хозяйства. Но по мере того, как это происходит, их граждане восстают против неизбежной утраты своего неповторимого лица и национальной суверенности. По всему миру мужчины и женщины выражают нежелание становиться еще одной взаимозаменяемой частью новой общепланетарной экономической системы - бухгалтерской статьей «прихода», единицей исчисления рабочей силы. В результате возник новый «трайбализм». На всем пространстве от бывшего Советского Союза до Боснии и Канады люди требуют права на выражение своего собственного этнического самосознания» [1, с. 48].
За благополучный период советской жизни мы забыли об особом проявлении кризиса, которое наблюдалось на нашей территории и с которым столкнулась советская власть в 20-е годы. Речь идет о таком трайбализме, при котором возникали новые «сборные» народы, которые собирались в общности с архаическим укладом хозяйства – чтобы сообща выжить в условиях бедствия. У Андрея Платонова есть рассказ о том, как студента родом из Средней Азии послали из Москвы на родину, чтобы он нашел и привел из пустыни такой народ, который называл себя «джан» (его мать ушла с этим народом).
«Трайбализм обездоленных» приобретает в западных городах и радикальные формы. Те меньшинства, которые чувствуют себя угнетенными в национальных государствах «первого мира», при ослаблении этого государства организуются для борьбы с ним под знаменем «нового трайбализма». Совершенно необычные этнические формы приобрела, например, во Франции социальная группа детей иммигрантов из Северной Африки. Темнокожие подростки, которые жгли автомобили в предместьях Парижа, вовсе не были движимы оскорбленными чувствами араба или мусульманина. Нет у них ни религиозной, ни классовой мотивации. О себе заявила новая микронация, которая желает жить во Франции, но жить, не признавая устоев общей культуры.
Города, превратившиеся для этих юношей и подростков в гетто, из которого нет нормального выхода в большой мир, сформировали из них что-то вроде особого племени, не имеющего ни национальной, ни классовой принадлежности. Это «интернациональное» племя враждебно окружающей их цивилизации и презирает своих отцов, которые трудятся на эту цивилизацию и пытаются в нее встроиться. У этого племени нет ни программы, ни конкретного противника, ни даже связных требований. То, что они делают, на Западе уже десять лет назад предсказали как «молекулярную гражданскую войну» - войну без фронта и без цели, войну как месть обществу, отбросившему часть населения как обузу. Десять лет назад эта война прогнозировалась как типично социальная, но теперь видно, что она приобрела черты войны этнической.
В 1964 г. Институт этнографии АН СССР издал книгу «Нации Латинской Америки», где было сказано, что, за исключением Кубы, все нации Латинской Америки являются буржуазными. Это уже схоластика, парализующая возможность понимания.
Отношение к провинциальным крестьянам собственной страны как к варварам, как людям иных народов, встречается в заметках многих путешественников из европейских столиц. Например, Бальзак сравнивал крестьян юга Франции с «дикими» американскими индейцами.
В сноске В.Малахов дает такое примечание: «Темпы притока трудовых мигрантов в «национальные государства» Западной Европы в последние три десятилетия ХХ века были столь высоки, что эти страны ни по сложности этно-демографической структуры, ни по интенсивности социокультурной динамики не отличаются от так называемых «иммиграционных государств» (США, Канада, Австралия и Новая Зеландия).Уместно также отметить, что термин «национальное государство» сделался в современной политической науке столь рутинным, что его применяют ко всем без исключения государствам, без оглядки на их этническую неоднородность».
В советскую литературу это понятие из-за ошибки переводчиков вошло в искаженном виде как «невидимый колледж» ученых.
Мультикультурализм в качестве официальной государственной политики первой приняла Канада (в 1988 г.).
Термины мультикультуризм или культурное разнообразие – принятое в западной литературе «политкорректное» обозначение групповых культурных различий, в большинстве случаев подразумевающее именно этничность.
Литература
23. М.М. Пришвин. Дневники. 1914-1917. М.: Московский рабочий. 1991.
24. С.В.Тютюкин. Июльский политический кризис 1906 г. в России. М.: Наука. 1991.
25. О. Шпенглер. Пруссачество и социализм. М.: Праксис. 2002.
26. К. Маркс. Президенту Соединенных Штатов Америки Аврааму Линкольну. Соч., т. 16, с. 18.
27. С. Levi-Strauss. Antropología estructural: Mito, sociedad, humanidades. México: Siglo XXI Eds. 1990.
28. В. Малахов. Зачем России мультикультурализм?*
29. С.Н.Булгаков. Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции). В кн.: С.Н.Булгаков. Христианский социализм. Новосибирск: Наука. 1991.
30. В.И. Ленин. Первое мая. Соч., т. 10.
31. А. Грамши. Современный государь. - Тюремные тетради. Т. 3. М.: Мысль*, 1959.
32. М.В. Нечкина. Грибоедов и декабристы. М., 1977.
33. А. Кустарев. Национал-государство, его наследники и наследие*
34. Д. Грушкин. «Национальные» движения в Республике Башкортостан: тенденции и перспективы». - В кн. «Бунтующая этничность». М.: РАН. 1999.
35. Ю.В. Бромлей. Очерки теории этноса. М., 1983.
36. Г.П. Федотов. Лицо России. - Вопросы философии. 1990, № 8.
37. А. Панарин. Народ без элиты. М.: Алгоритм-ЭКСМО. 2006.
38. Л.Г. Ионин. Консервативная геополитика и прогрессивная глобалистика - СОЦИС. 1998, № 10.
39. О.Ю. Малинова. Либерализм и концепт нации. – ПОЛИС. 2003, № 2.