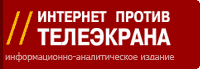1. Голодный экспорт зерна – главная причина кризиса и революции?!
Концепция русской революции 1917 г., которую С. А. Нефедов отстаивает в своих работах, по внешнему виду неомальтузианская, а по сути – марксистско-ленинская. Согласно мальтузианской концепции, существуют две главные причины периодического обострения нужды и бедности: высокая рождаемость (по причине стихийности, или нерегулируемости) и закон падающей производительности земли (в современной трактовке закон падающей производительности труда, примененного к участку земли с фиксированной площадью, или, более широко, закон убывающей производительности любого переменного ресурса при прочих фиксированных). Под влиянием этих причин возникает экзистенциальный кризис, который приводит к социальной напряженности в обществе и в конечном итоге к революции. По мнению С. А. Нефедова, главная причина русских революций начала ХХ в. тоже экзистенциальный кризис: трудящиеся буквально беднели, голодали и вымирали. Однако причины были иные – антикрестьянская политика правительства («половинчатая реформа 1861 года, освободившая помещичьих крестьян с крайне недостаточными наделами и сохранившая феодальное землевладение помещиков») и эксплуатации крестьянства со стороны землевладельцев. Хлеба производилось в стране достаточно для удовлетворения потребностей всего населения, но помещики в погоне за прибылью и при поддержке властей продавали свой хлеб за границу, так как это было якобы более выгодно, обрекая крестьянство на нищету и лишения. Голодный экспорт – вот главная причина недопотребления и экзистенциального кризиса. Аграрное перенаселение, демографический взрыв, экологический кризис, которые автор также упоминает, не имели бы мальтузианского эффекта, если бы не вывоз. Хлебный экспорт, который исследователями считается клином, вбитым в полунатуральное хозяйств деревни, источником прогресса в сельском хозяйстве, был, по мнению С. А. Нефедова, «остатком феодализма (sic! – Б.М.), он был основан на феодальном по происхождению крупном землевладении, и на той власти, которую еще сохраняло русское дворянство (курсив мой. – Б.М.)». Как в типичной марксистской работе советского времени, в качестве аргументов в пользу экзистенциального кризиса приводятся крестьянские волнения и недоимки, обезземеливание, социальное расслоение, пережитки феодализма, эксплуатация крестьянства, голодовки, болезни, нищета, стагнация сельского хозяйства вследствие сокращения природных ресурсов для сельского хозяйства и истощении почвы. Автор оценивает состояние российской империи в пореформенное время как системный, т.е. глобальный, всеобщий кризис. Словом, классовый марксистский подход, причем в ортодоксальной трактовке, здесь налицо. Хотя заключение статьи вполне мальтузианское: «…Колоссальное потрясение общества, которое опрокинуло все, что казалось наиболее прочным, <...> являются, быть может, гораздо более следствием роста населения, нежели деятельности Ленина или заблуждений Николая...» (с. 42)1.
На мой взгляд, С. А. Нефедов неудачно пытается соединить мальтузианство с марксизмом. Во-первых, общепризнанно, что сфера приложения мальтузианской концепции ограничена традиционными доиндустриальными обществами, где резервы совершенствования технологии и социальной системы ограничены и к тому же нет возможности увеличивать размеры пахотной и пастбищной земли, вследствие чего емкость экологической ниши остается величиной, близкой к постоянной. Россия второй половины ХIX – начала XX в. была обществом, вступившим в индустриальную эпоху, к тому же обладала огромным массивом свободных земель, которые продолжали осваиваться, и имела большой опыт колонизации. Во-вторых, в симбиозе марксизма и мальтузианства есть принципиальное противоречие. Если все беды России происходили от фатально высокого естественного прироста населения, то пережитки крепостничества, политика правительства и другие социально-экономические факторы не должны иметь того большого значения, которое им придается. Если дело в политике власти, которая не смогла обеспечить адекватное развитие сельского хозяйства, то высокие темпы естественного прироста населения не могли стать решающим фактором революции, на чем настаивает С. А. Нефедов. Не случайно мальтузианцы и марксисты всегда были непримиримыми критиками друг друга.
Однако слабость предложенной схемы, конечно, не в ее марксистском характере, а в том, что объяснение экзистенциального кризиса экспортом хлеба противоречит фундаментальным экономическим законам рыночного хозяйства. Согласно им, товар продается тем, кто предлагает за него наиболее выгодные цены. В условиях рыночного хозяйства хлеб из внутренних регионов мог идти на экспорт только в том случае, если бы не находил спроса на внутреннем рынке по соответствующей цене. Если бы, как утверждает С. А. Нефедов, в России существовал неудовлетворенный спрос на хлеб, то внутренние цены были бы выше мировых, и русский хлеб не шел бы за границу, а оставался в стране, поскольку речь идет о предмете первой необходимости, обладающим минимальной эластичностью потребления и спроса. В действительности на внешний рынок уходил лишь избыток хлеба, которой не находил спроса на внутреннем рынке. Как писал крупнейший эксперт в данном вопросе В. И. Покровский в 1902 г.: «К концу семидесятых годов (XIX в. – Б.М.) уже были проведены все важнейшие пути хлебных грузов, и дальнейший рост внешней торговли хлебом становится в полную зависимость от урожая. <…> Рожь есть основной продукт народного питания в России, почему заграницу может уходить лишь незначительная часть ее сбора, остающаяся по удовлетворении продовольственных нужд» (Покровский 1902: 5, 21). В 1920-е гг. другой известный экономист А. Н. Челинцев, специально изучавший вопрос о роли внутреннего и внешнего рынка для русского хлеба в 1880–1910 гг., пришел к аналогичному выводу: «При достигнутом уровне производительности сельского хозяйства, часть его продуктов могла продаваться лишь за пределами России» (Челинцев 1923: 607). В случае неурожая внутренний рынок предлагает цены даже более высокие, чем внешний, вследствие чего вывоз хлеба за пределы страны лишается экономического смысла, да и правительство нередко в годы неурожая повышало пошлины или вообще запрещает экспорт, как это, например, случилось в 1891 г. (Ермолов 1909: 104–105). Более того, искусственное ограничение экспорта в годы неурожаев, как оказалось, имело негативные последствия. Например, запрещение хлебного экспорта в 1891–1892 гг. не привело к понижению хлебных цен на внутреннем рынке, но имело результатом вытеснение России с немецкого и английского рынков, ввиду чего произошло понижение российских хлебных цен и падение доходов земледельцев. Таким образом,идея голодного экспорта, даже если бы министры финансов ее и придерживались, с точки зрения экономических законов рыночной экономики не могла быть реализована. Именно поэтому М. А. Давыдов, специально изучавший данную проблему на российских данных конца XIX – начала XX в., пришел к выводу, что тезис о голодном экспорте хлеба не подкрепляется эмпирически статистикой производства, экспорта и перевозок (Давыдов 2003: 235). Повышение доли экспортного хлеба в валовых его сборах в 50 губерниях Европейской России с 4,6% в 1861–1865 гг. до 14,3% в 1875–1879 г. и до 19,6% в 1909–1913 гг. (Покровский 1903: 6–7; Сб. стат.-эк. сведений. 1917: 34–35, 330–331) свидетельствует не о нарастании экзистенциального кризиса, как думает С. А. Нефедов, а о том, что производство зерновых в стране в пореформенное время росло и продовольственные потребности в зерне удовлетворялись, но внутренний рынок не мог поглотить весь избыток произведенного хлеба.
Существование экзистенциального кризиса под влиянием экспорта хлеба опровергается и информацией о потреблении алкоголя. Если для огромного большинства крестьян была альтернатива – водка лично для него или хлеб для семьи, он выбирал хлеб, поскольку пагубное пристрастие к алкоголю являлось уделом немногочисленных и маргинальных слоев. По моим расчетам, привести которые здесь нет возможности, с 1863 г. по 1906–1910 гг. общее душевое потребление алкоголя в 50 губерниях Европейской России уменьшилось на 16%, но душевые расходы на него увеличились в 2,6 раза вследствие роста цен, составив значительную цифру – 5,73 руб. в год, что в 1,8 раза превышало годовую величину всех налогов и повинностей на душу населения (Материалы Комиссии. 1903: 38–39). Если бы деревня голодала, она не могла бы тратить на алкоголь столь значительные и все возраставшие средства. Это было возможно только в случае повышения благосостояния.
Хроническое (именно хроническое, а не эпизодические ввиду неурожая) недопотребление многомиллионных масс крестьянства в XIX – начале ХХ в. было маловероятно также ввиду наличия в крестьянском хозяйстве значительных резервов рабочей силы. Они существовали не столько вследствие аграрного перенаселения и невозможности найти работу, сколько ввиду того что русские православные крестьяне следовали принципам моральной экономики. Как установил А. В. Чаянов и его коллеги по организационно-производственной школе, для крестьян нормы напряжения труда, или степень самоэксплуатации, значительно ниже полного использования труда: у мужчин от 37 до 96%, у женщин – от 15 до 55, у полуработников – от 8 до 40% (Чаянов 1989: 199–200, 238, 241, 244). Уровень самоэксплуатации устанавливался соотношением между мерой удовлетворения потребностей и мерой тягости труда. Степень самоэкспуатации в пореформенное время понижалась, поскольку число рабочих дней уменьшилось со 135 в 1850-е гг. до 107 в начале ХХ в. (Миронов 2003а: 308). Располагая резервами для увеличения собственного производства и для получения доходов на стороне, крестьянское хозяйство только в экстремальных обстоятельствах могло подвергаться суровой депривации.
О российской урожайной статистике XIX – начала XX в.
Дискуссия о точности урожайной статистики ведется более 150 лет. Все эксперты, которые проверяли (путем сравнения разных источников или посредством внутренней их критики) точность урожайной статистики в губернаторских отчетах указывали на ее недоброкачественность. Относительно удовлетворительными находили сведения Центрального статистического комитета (ЦСК), Департамента земледелия (ДЗ) и особенно земств, которые стали собираться только с 1880-х гг. Нефедов не дифференцирует разные виды учета, а позитивные оценки урожайной статистики ЦСК, ДЗ и земств за 1881–1914 гг. относит ко всей урожайной статистике XIX – начала ХХ в., т.е. распространяет на губернаторские отчеты, которые до 1880-х гг. были единственным источником урожайных сведений. Такой подход представляется неприемлемым. Даже те эксперты, которые считали возможным использовать губернаторские отчеты, полагали, что их сведения правдоподобны лишь в отношении оценки направления изменений и общей сравнительной оценки урожаев и сбора (больше или меньше по сравнению с предыдущими годами или в одних губерниях сравнительно с другими). При этом все сходились на том, что качество данных в губернаторском отчете было самым неудовлетворительным сравнительно с другими видами учета и что в отчетах несомненно занижалась величина сбора хлебов. Даже чиновники, якобы заинтересованные, как ошибочно полагает по аналогии с советским временем С. А. Нефедов, в приукрашивании действительности, неизменно отмечали низкое качество урожайной статистики, в особенности из отчетов губернаторов. Вот заключение Комитета министров, на котором 17 мая 1819 г. рассматривалась таблица о посеве и урожае хлеба в 1811–1819 гг. по донесениям губернаторов: «Сведения, на которых она основана, быв взяты со слов крестьян и объявлений помещиков, конечно, верными почитаться не могут. <…> Урожай везде показан несравненно меньше, нежели действительно бывает оный в натуре (курсив мой. – Б.М.)» (Литвак 1979: 167). Через 50 лет, в 1869 г., Комитет министров пришел к выводу, что из губернаторских отчетов следует вообще устранить статистическое приложение вследствие недостоверности содержащихся в нем сведений (РГИА. 1869). Еще через 32 года, в 1901 г., эксперты Комиссии по исследованию вопроса о движении с 1861 г. по 1900 г. благосостояния сельского населения сделали следующее заключение относительно урожайной статистики: «Данные о площади посева и об урожае хлебов представляются мало достоверными, поэтому и выводы представляются довольно шаткими» (Материалы Комиссии 1903: 195). Причем, скепсис был тем больше, чем ближе эксперт был знаком с процедурой сбора сведений. Известный экономист В. И. Покровский отмечал в 1902 г.: «В том, что официальные цифры урожаев ниже действительных, сходятся все исследователи русского земледелия; но как велика разница – еще никем не выяснено. В настоящем случае существенно, что преуменьшение урожаев в официальных материалах имело место всегда, и что лишь за последнее пятилетие (1893–1897 гг. – Б.М.) оно не так значительно, как прежде» (Покровский 1902: 7). Естественно поэтому, что оценка точности урожайной статистики в губернаторских отчетах колеблется от резко отрицательной (Яцунский 1977: 277–284) до более или менее приемлемой в силу отсутствия другой (И. И. Вильсон, Ю. Э. Янсон, А. Ф. Фортунатов и др.) (Миронов 2008а: 83–95).
Сведения ЦСК также занижали урожаи. Например, в 1917 г. Особое совещание по продовольствию оценило достоверность урожайности пяти хлебов на крестьянских землях за 1909–1913 гг. по разным источникам в 9–26 губерниях. По его расчетам, в средним по пяти хлебам урожаи на крестьянских землях по данным ЦСК, главного поставщика урожайных сведений в 1881–1917 гг., были на 6,2% ниже, чем по земской статистике (Производство 1917, 1: XII). Весомые, основанные на транспортной статистике аргументы в пользу того, что урожайная статистика ЦСК занижала урожаи и сборы хлебов, приведены также М. А. Давыдовым (2003: 61–72).
Если суммировать оценки точности урожайности разными видами учета, а наименее достоверные сведения губернаторских отчетов об урожаях на крестьянских землях принять за сто, то оказывается, что сведения ЦСК были на 6,9% выше, сведения Департамента земледелия – на 12,9% выше, самые точные сведения земств – на 14% выше в 1883–1889 г. и на 13,2% выше в 1890–1915 гг. (Миронов 2008а: 91).
Данные о посевах, собираемые через волостные правления и помещиков, также считались исследователями сомнительными (с 1880-х гг. они собирались только ЦСК). Например, Д. И. Иванцов находил их вообще недостоверными и непригодными для анализа, так как они искажали истинные посевы более чем на 20% (Иванцов 1915: 27). Проверить их точность можно только для 1916 г. путем сравнения с данными сельскохозяйственной переписи (см. Табл. 1):
Табл. 1. Посевная площадь по сведениям ЦСК и сельскохозяйственной переписи 1916 г.
(данные ЦСК=100)*
| Рожь | Пшеница | Ячмень | Овес | 4 хлеба | Гречиха | Горох | Бобовые | Второст. хлеба | Все хлеба | Картофель | |
| Северный | 95,1 | 11,9 | 106,5 | 33,1 | 82,0 | – | 209,5 | – | 144,7 | 83,8 | 69,2 |
| Северно-землед. | 123,5 | 90,4 | 97,1 | 109,2 | 115,8 | 60,6 | 86,4 | 471,4 | 85,4 | 115,4 | 112,8 |
| Петроградская | 134,5 | 16,6 | 76,2 | 103,0 | 111,0 | 24,9 | 89,5 | 56,4 | 66,0 | 110,5 | 83,1 |
| Прибалтийский | 94,6 | 72,6 | 98,7 | 80,9 | 89,1 | 60,8 | 187,5 | 495,5 | 158,2 | 89,8 | 102,3 |
| Западный | 106,0 | 92,7 | 78,1 | 92,5 | 98,4 | 83,3 | 95,6 | 93,1 | 85,8 | 96,8 | 114,1 |
| Центрально-пром. | 127,8 | 105,7 | 95,8 | 118,3 | 122,0 | 110,1 | 151,5 | 97,1 | 105,7 | 121,2 | 111,9 |
| Прикамский | 109,9 | 82,2 | 98,4 | 109,5 | 106,8 | 77,0 | 107,5 | 95,3 | 87,6 | 104,6 | 85,6 |
| Приуральский | 110,4 | 99,8 | 108,6 | 89,4 | 100,4 | 106,2 | 106,2 | 39,9 | 103,6 | 100,5 | 611,9 |
| Центрально-земл. | 102,8 | 95,9 | 118,8 | 95,3 | 100,0 | 90,5 | 193,4 | 111,7 | 102,8 | 100,3 | 107,6 |
| Юго-западный | 101,9 | 105,6 | 110,8 | 111,0 | 106,8 | 80,7 | 139,3 | 114,3 | 101,1 | 105,8 | 74,1 |
| Малороссийский | 100,8 | 111,6 | 113,3 | 106,5 | 107,0 | 81,3 | 185,5 | 115,6 | 88,1 | 104,9 | 159,1 |
| Новоросийско-Донской | 89,2 | 104,4 | 99,5 | 110,9 | 101,3 | 66,0 | 236,4 | 175,8 | 86,3 | 100,0 | 138,2 |
| Юго-восточный | 102,8 | 92,3 | 88,3 | 100,9 | 97,5 | 97,3 | 110,3 | 115,2 | 96,7 | 97,5 | 112,5 |
| Нижне-волжский | 82,4 | 71,4 | 66,8 | 21,0 | 75,1 | 81,1 | 66,8 | 33,4 | 53,0 | 73,5 | 39,3 |
| Ставропольская губ. | 82,0 | 87,2 | 89,3 | 99,1 | 105,0 | 17,4 | – | 76,4 | 91,9 | 104,0 | 89,4 |
| 45 губерний** | 106,0 | 98,7 | 99,0 | 102,2 | 103,0 | 84,8 | 121,9 | 108,9 | 92,7 | 102,0 | 111,6 |
* Полужирным выделены максимальные расхождения. ** Нет сведений по Виленской, Волынской, Гродненской, Ковенской и Курляндской губерниям.
Источники: Производство. 1917: Вып. 1. С. Х; Вып. 2. С.VII.
Как видим, посевы по регионам согласно сведениям переписи и ЦСК различались по всем хлебам весьма существенно, иногда в 5 раз (по бобовым в Прибалтийском регионе), хотя в целом по всем хлебам и картофелю различие составило лишь 3% в пользу переписи2. Небольшое в целом расхождение по 45 губерниям отнюдь не является показателем высокой точности данных ЦСК, а объясняется взаимным погашением больших искажений в одних районах в сторону преуменьшения большими же искажениями в других регионах в сторону преувеличения. Следовательно, если за достоверные принять данные земств и сельскохозяйственной переписи 1916 г., то в общероссийском масштабе ЦСК в конце XIX – начале XX в. занижал сборы хлебов по крайней мере на 10,2%, в том числе на 13,2% вследствие преуменьшения урожайности и на 3% по причине завышения посевов. По губерниям различия были еще больше. Поскольку никакой закономерности в искажениях не усматривается, а 1916-й, как военный, был весьма специфическим годом, трудно думать, что перепись дала абсолютно точные данные. Поэтому распространить полученные выводы за 1916 г. на весь изучаемый период представляется крайне рискованным. Нельзя даже сделать вывод о направлении искажений в регионе, так как по одним хлебам посевы преувеличиваются, а по другим – преуменьшаются. Можно только сказать, что тенденцию к уменьшению посевов во время военных лет ЦСК зафиксировал правильно.
Еще менее обнадеживающий результат дала проверка точности сборов хлебов, проведенная ЦСУ в 1920-е гг. Столкнувшись с фактом якобы дефицита хлеба при его фактическом избытке, государственная статистика стала применять балансовый метод проверки по потреблению. Суть метода сводилась к учету всех потребителей зерновых (семена, экспорт, армия, промышленность и личные нужды) по фактическому потреблению, о чем имелись соответствующие сведения. Оказалось, что итоги валовых сборов по сведениям ЦСК за 1906–1914 гг. были занижены примерно на 19,3%, в том числе на 9% по урожайности и на 10% по посевам. В годы продразверстки и продналога, 1918–1924 гг., когда у крестьян несомненно появились дополнительные причины для занижения сборов хлебов, урожаи стали преуменьшаться минимум на 30–32%, а посевы – на 16%, валовые сборы в целом – на 51–59% (Струмилин 1979: 235). Другими словами, по расчету ЦСУ, даже более или менее удовлетворительные данные ЦСК в дореволюционное время занижали уровень урожаев на 9–10%, примерно на столько же величину посевов, а валовые сборы в целом – на 19–20%. Поэтому Госплан некоторое время приводил в своих изданиях величину предвоенных урожаев с надбавкой в 19%. Характерно, что и в западной историографии большинство исследователей при оценке сбора хлеба использовали поправку: одни в 19%, другие – в 10% (Falkus 1968: 65), третьи – в 7% (Wheatcroft 1974: 167–169; Грегори 2003: 111, 115).
Ввиду острой потребности в массовых статистических данных в советской аграрной истории со второй половины 1960-х гг., после длительного скепсиса в отношении точности губернаторских отчетов, возобладало положительное к ним отношение, апогеем которого стала опубликованная в 1974 г. книга А. С. Нифонтова Зерновое производство. Но в 1979 г. известный источниковед и аграрный историк России XIX в. Б. Г. Литвак подверг оптимистический вывод А. С. Нифонтова скрупулезной проверке и пришел к неутешительному выводу. Источниковедческий анализ А. С. Нифонтова, который С. А. Нефедов называет «до сих пор непревзойденным», на самом деле являлся поверхностным и необъективным, вследствие чего точность урожайной статистики по губернаторским отчетам была переоценена. Как доказал Б. Г. Литвак, сведения о посевах и урожаях (вместе с данными о численности скота) в действительности следует отнести к группе данных сомнительной достоверности, причем самой низкой сравнительно с другими. Не буду пересказывать аргументацию критика, скажу только, что в историографии это самое пространное, полное, всестороннее и объективное исследование достоверности урожайной статистики по губернаторским отчетам и вообще отчетов как источника (Литвак 1979: 142–186).
Ряд дореволюционных, советских и зарубежных исследователей оценивали сведения ЦСК об урожаях как «очень близкие к действительности» (Виноградова 1926: 90), «как наиболее систематический и наиболее полный набор данных» (Ковальченко 2004: 44), как «достаточно надежные» (Wheatcroft, Davies 1994: 25). Вопрос, однако, состоит в том, что считать приемлемым, достоверным или надежным. По мнению С. А. Нефедова, это полное соответствие оценок действительному положению дел. Однако в отличие от него эксперты считали, что данные о сборах хлебов не являлись точными, а лишь приблизительно отражали направления изменений и позволяли дать общую сравнительную оценкусредних многолетних урожаев и сборов хлебов по регионам. Те, кто оценивал степень приемлемости, считал допустимыми отклонения в интервале от 7 до 20%. К ним, в том числе, относились Д. Н. Иванцов, Н. М. Виноградова, И. Д. Ковальченко. Однако не все решались вносить поправки (из-за их неопределенности) в первичные данные, особенно в тех случаях, когда исследовательская задача ограничивалась анализом динамики и сравнением урожаев и сборов хлебов в отдельные периоды и в разных регионах.
При оценке точности данных любой статистики, в том числе сельскохозяйственной, нужно принимать во внимание, что абсолютно надежных данных не существует в принципе. Колебания данных в разных источниках закономерны и, если они в пределах 10–20%, то они приемлемы для научного анализа. При современном учете, неизмеримо более совершенном, чем 100–200 лет назад, точных данных также не существует. Английским статистиком О. Моргенштерном показано, что в США статистические данные, разрабатываемые двумя главными центрами сельскохозяйственной статистики, Бюро цензов и Министерством сельского хозяйства, в 1950-е гг. отличались друг от друга по уборочной площади основных культур от (+)0,6 до (-)26,4%, по производству – от (+)6,0 до (-)13,4% (Моргенштерн 1968: 190–203).
Поскольку я, как и А. С. Нифонотов, для XIX в. использовал именно губернаторские отчеты, и меня интересовали не только динамика показателей, но и их уровень, то ради получения более или менее надежной картины был вынужден подкорректировать первичные данные. Была внесена 10-процентная поправка, равная половине среднего искажения сбора хлебов в губернаторских отчетах. Поэтому утверждение С. А. Нефедова, что «Б. Н. Миронов произвольно увеличивает размеры чистого сбора на 10%» (Нефедов 2009) не соответствует действительности, впрочем, как и другие его замечания. Приведу и отвечу только на самые важные.
(1) Кроме игнорирования занижения сборов хлебов, расчет С. А. Нефедовым продовольственного баланса содержит еще один важный недостаток – он не учитывает другие, кроме хлеба, источники питания, в частности животноводство. Обычно исследователи, опираясь на официальную статистику, исходят из того, что потребление мясомолочных продуктов было крайне недостаточным. Однако официальные данные преуменьшали численность скота в еще большей степени, чем сборы хлебов. Сельскохозяйственная перепись 1916 г., проведенная в условиях войны, когда поголовье скота несомненно сократилось сравнительно с довоенным, в том числе вследствие реквизиции около 2,6 млн. лошадей и волов для нужд армии (Анфимов 1962: 196), обнаружила: в 1916 г. лошадей было на 16% больше, крупного рогатого скота – на 45%, мелкого – на 83% больше, чем в 1913 г. по сведениям ЦСК (Стат. сборник. 1921: 184–185). В целом абсолютная численность скота в 1913 г. была преуменьшена по крайней мере на 50%, а на 1000 человек населения – на 88%. При этом вряд ли крестьянство сообщило переписчикам в 1916 г. абсолютно точные сведения. К аналогичным выводам пришел А. Л. Вайнштейн. Сравнивая данные сельскохозяйственной переписи и ЦСК за 1916 г., он обнаружил расхождения между ними по крупному рогатому скоту – на 41,5%, по мелкому рогатому скоту – на 68,8%, по свиньям – на 89,2% в пользу переписи. Земские данные также превосходили сведения ЦСК (правда, информация имелась лишь по трем губерниям) – соответственно на 37,8; 40,9 и 70%. Следовательно, если за эталон взять перепись, то земская статистика также занижала численность скота: крупного рогатого – на 3,7% (41,5–37,8), мелкого рогатого – на 27,1% (68,0 – 40,9), свиней – на 19,2% (89,2 – 70,0). Данные ветеринарного управления, по мнению А. Л. Вайнштейна, также непригодны для оценки абсолютной численности продуктивного скота, а военно-конских переписей – для оценки числа лошадей (Вайнштейн 1960: 106–112). С оценками последнего полностью согласился И. Д. Ковальченко (Ковальченко 2004: 50–51), на которого главным образом и ориентируется С. А. Нефедов.
(2) С. А. Нефедов утверждает, что «обманчивая картина удовлетворения потребностей» создается мною искусственно, благодаря тому что в рассчитанном мною хлебном балансе расходы на фураж с 1860-х и до 1909–1913 гг. принимаются одинаковыми (1,1 пуда) на душу населения. По его мнению, «за это время расходы на фураж резко возросли, так как количество лошадей увеличилось в полтора раза». В действительности, с 1864–1869 гг. по 1910–1913 гг. число лошадей в 50 губерниях Европейской России возросло на 39,4% – с 15,5 млн до 21,6 млн (Сб. стат.-эк. сведений 1917: 240–241), но население увеличилось еще больше – на 89,9%, с 62,6 млн до 118,9 млн (Рашин 1956: 46–47). Следовательно, на душу населения число лошадей не увеличилось, а на 28% уменьшилось. Вследствие этого расход хлеба на фураж в подушном исчислении не увеличился в 1,5 раза, как полагает С. А. Нефедов, а уменьшился в 1,28 раза; соответственно благодаря этому на продовольствие зерна оставалось в 1,28 раза больше. Беря расход овса на фураж неизменным, я сознательно шел на то, чтобы не преувеличить продовольственные остатки зерновых.
(3) При расчете хлебного баланса С. А. Нефедов недооценивает его по двум причинам. Во-первых, он переводит картофель в зерно по соотношению 1:5, тогда как в изучаемое время общепризнан был другой коэффициент – 1:3. Во-вторых, расчет относится только к 50 губерниям Европейской России. Между тем плодородные предкавказские губернии (Кубанская, Ставропольская, Терская, Черноморская), а также и западносибирские (Енисейская, Тобольская и Томская) обладали значительными хлебными излишками, которые поступали в местности, испытывавшие дефицит в хлебе и на экспорт. Учет этих губерниях в 1893–1897 гг. увеличивал душевое производства зерновых и картофеля в стране на 2% (Покровский 1902: 7–8), а в 1909–1913 гг. – на 5% (подсчитано мною по: Сборник статистико-экономических сведений. 1917: 8–62).
(4) Крестьяне и помещики, полагает С. А. Нефедов, не участвовали в сборе данных и не были заинтересованы в их занижении. На самом деле участвовали и были заинтересованы. Даже с 1883 г. сведения о посевах ЦСК собирало через волостных старшин и помещиков, а об урожаях и высеве – через добровольных корреспондентов, которые в большинстве также были крестьянами (Миронов 2008а: 84–85). Сам факт систематического занижения сборов хлебов в губернаторских отчетах говорит о том, что земледельцы и выборная волостная администрация, как правило, также из крестьян, преуменьшали величину сбора и, значит, имели для этого мотив, который, по мнению правительственного агронома К. П. Рудзита, сводился к стремлению крестьянина «всегда и во всем (из-за боязни увеличения податей или других соображений) уменьшить цифры, касающиеся его экономического благосостояния» (Давыдов 2003: 193).
(5) С. А. Нефедов утверждает, что известный историк-аграрник В. К. Яцунский не был сторонником внесения понижающей поправки в данные сборов хлебов. Это неверно. И. И. Вильсон в губернаторские отчеты о сборе хлебов ввел поправку, которая увеличила сбор озимых на 21,2%, сбор яровых – на 15,6, по всем хлебам – на 17% (Вильсон 1869: 78–79, 108–109). Яцунский взял исправленные данные Вильсона, уменьшив поправку до 7,4% (Яцунский 1961:131).
(6) С. А. Нефедов преувеличивает влияние имущественной и географической дифференциации в обеспечении хлебом. Имущественное расслоение среди крестьянства, принимая за критерий доходы, а не величину земельного надела или численность скота, как было принято в советской историографии, было незначительным. Неравенство между крестьянами на рубеже XIX–XX вв., оцененное коэффициентом Джини по доходу на душу населения, было невысоким – на уровне 0,133–0,206. Крестьянство в отличие от других сословий до самой революции 1917 г. оставалось в имущественном и социальном отношениях довольно однородным и имело лишь зачатки так называемого буржуазного расслоения (Миронов 2003а: 127–128).
Расчет дифференциации губерний по величине продовольственных остатков на 1908–1913 гг., выполненный С. А. Нефедовым, не может считаться удовлетворительным. Во-первых, как мы видели выше (Табл. 1), оценка посевов в регионах и губерниях существенно отличалась от действительных, следовательно, столь же неточны оценки и сбора хлебов. Во-вторых, автор расчета не учитывает потребление хлеба промышленностью, городским населением и армией. В-третьих, как показано М. А. Давыдовым, статистика перевозок, на основе которой С. А. Нефедов вычисляет величину продовольственных остатков, не являлась достоверной для тонких расчетов баланса хлеба на губернском уровне (Давыдов 2003: 81–181). Наконец, не хлебом единым питалось население: о дефиците продуктов питания в губернии можно говорить только при наличии информации обо всем потреблении, которой у С. А. Нефедова нет. Следует также принять во внимание, что после создания сети железных дорог существование дефицита хлеба в губернии не представляло для населения большой опасности. Неурожаи редко охватывали всю территорию страны, и существовала возможность доставки хлеба из районов с избытками в районы с недостатками хлеба, не говоря уже об импорте.
Мыло и карболка спасли русских от полного вымирания?!
Если бы, как настаивает С. А. Нефедов, существовал огромный (23–25%) хронический дефицит продовольственного хлеба – главного продукта питания, то это неминуемо привело бы к физической деградации населения – уменьшению роста и веса, а также к нарушению нормальных пропорций тела (Жолус 1997: 209–217). Однако имеющиеся данные показывают, что в пореформенное время средний рост мужского населения с 1861–1865 по 1911–1915 гг. увеличился на 5,1 см (со 163,9 до 169,0), а средний вес – на 4 кг (с 61 до 65 кг) (Миронов 2008а: 33–34). Индекс массы тела3, показывающий уровень питания, равнялся в 1861–1865 гг. – 22,7 и в 1911–1915 гг. – 22,8. Значения индекса в диапазоне от 19,5 до 22,9 соответствует нормальному питанию, от 18,5 до 19,4 – пониженному, менее 18,5 – недостаточному, а выше 23,0 – повышенному (Новое Положение 2003: 122–123). Следовательно, питание в пореформенное время, за исключением неурожайных лет, находилось в норме.
Когда С. А. Нефедов утверждает, что главная причина увеличения длины тела состояла в улучшении санитарно-гигиенических условий – «в мыле и карболке», то он сильно заблуждается. Биологами человека установлено, что средний конечный рост людей зависит от совокупности всех условий их жизни – от питания, перенесенных болезней, интенсивности и условий работы, медицинского обслуживания, жилищных условий, психологического комфорта, климата, воды, воздуха и других факторов среды в течение всей предшествующей жизни до момента измерения роста (Миронов 2003а: 335–337). Существенно отметить, что если средний финальный рост отражает биостатус, или степень удовлетворения базисных биологических потребностей человека, в течение всего периода от рождения до измерения, то вес показывает биостатус в момент измерения. Поскольку динамика веса и индекса массы тела на протяжении всего пореформенного периода имела положительный тренд, за исключением лет сильного неурожая, 1871–1872 и 1891–1892 гг., мы имеем надежное основание для заключения, что питание в пореформенное время большей частью находилось в норме. Кроме того, увеличение роста населения началось с конца XVIII в. – за 90 лет до того, как стали улучшаться санитарно-гигиенические условия жизни и снижаться смертность, и в пореформенное время этот процесс просто ускорился благодаря более быстрому повышению уровня жизни.
Мальтузианская теория совершенно правильно утверждает, что падение потребления должно вызвать увеличение смертности и замедление прироста населения, в то время как в пореформенной России смертность уменьшалась, а естественный прирост населения ускорялся. Данное противоречие автор объясняет тем, что понижение смертности происходило, несмотря на якобы ухудшение потребления и общего материального положения крестьянства, исключительно под влиянием улучшения санитарно-гигиенических навыков. Этот тезис он доказывает наличием тесной корреляции (r = 0,83) между смертностью в губерниях и их географическим расположением (см. Табл. 2). Тесную связь он интерпретируют так: чем западнее губерния, тем в большей степени она находилась под благотворным влиянием Запада и тем ниже поэтому там была смертность. Толкование сомнительное, так как в действительности за географическим расположением губернии (близостью ее к Западу) скрывалось очень многое – плотность населения, величина осадков, высота урожаев, качество жизни, уровень индустриализации, степень урбанизации, развитие общей культуры, доля неправославных в населении и масштабы санитарной помощи населению, но вместе с тем и число пасмурных дней, количество лягушек и комаров, доля евреев в населении, ибо все перечисленные показатели имели тенденцию увеличиваться в направлении с востока на запад. Вследствие этого мы должны строить многофакторную, а не однофакторную модель и провести тщательную содержательную интерпретацию показателей, чтобы не попасть в ловушку ложных корреляций. Вроде той, которая существует, например, между продажами аспирина и губной помады, длиной юбок в США, объема произведенного масла в Бангладеш, с одной стороны, и биржевым индексом в США – с другой.
Но даже если мы примем схему интерпретации С. А. Нефедова, его гипотеза опровергается. По результатам корреляционного анализа (см. Табл. 2) земское здравоохранение и общая культура не оказывали важного влияния на уровень смертности в губерниях. Между тем, если бы проблема уменьшения смертности сводилась главным образом к распространению медицинских знаний, то между смертностью и числом земских врачей (на 1000 населения) должна была наблюдаться тесная зависимость: именно деятельность врачей, прежде всего земских, обеспечивала распространение гигиенических знаний, уменьшение заболеваемости, что и вело к уменьшению смертности. Но корреляция между смертностью и количеством врачей в губерниях в 1911 г. была слабой (r = 0,42), что говорит о том, что медицинская деятельность могла объяснить лишь около 18% вариации смертности по губерниям. Эффективность работы врачей, как сами они утверждали, напрямую зависела от общей культуры населения, уровень которой в губернии до некоторой степени измерял процент грамотных. Чем грамотнее были крестьяне, тем восприимчивее они были к санитарно-медицинской пропаганде и тем активнее обращались к профессиональной медицинской помощи. Однако корреляция между грамотностью и смертностью в губерниях в 1911–1913 гг. также оказалась слабой [r = (-)0,43], показывая, что уровень грамотности мог объяснять лишь около 18% географии смертности. Причем между грамотностью и числом врачей наблюдалась тесная корреляция (r = 0,71), что указывает на то, что эти независимые переменные дублировали друг друга.
Табл. 2. Коэффициенты корреляции между средним
ростом, смертностью, рождаемостью,
естественным приростом, грамотностью и числом
врачей в 48 губерниях Европейской России
| Прибавка роста | Средний рост | Смерт- ность | Рожда-емость | Естествен- ный прирост | Долгота губернии | Число врачей | Грамот- ность | |
| Прибавка роста мужчин в 1851–1897 гг. | 1,00 | 0,58 | -0,13 | -0,21 | -0,21 | -0,01 | 0,08 | 0,34 |
| Средний рост мужчин в 1888–1897 гг. | 0,58 | 1,00 | -0,38 | -0,40 | -0,20 | -0,31 | 0,59 | 0,62 |
| Смертность в 1911–1913 гг. | -0,13 | -0,38 | 1,00 | 0,86 | 0,15 | 0,83 | -0,42 | -0,43 |
| Рождаемость в 1911–1913 гг. | -0,21 | -0,40 | 0,86 | 1,00 | 0,64 | 0,82 | -0,53 | -0,70 |
| Естественный прирост населения в 1911– 1913 гг. | -0,21 | -0,20 | 0,15 | 0,64 | 1,00 | 0,34 | -0,38 | -0,70 |
| Долгота губернского центра | -0,01 | -0,31 | 0,83 | 0,82 | 0,34 | 1,00 | -0,41 | -0,43 |
| Число врачей на 1000 человек в 1911 г. | 0,08 | 0,59 | -0,42 | -0,53 | -0,38 | -0,41 | 1,00 | 0,71 |
| Грамотность в 1897 г. | 0,34 | 0,62 | -0,43 | -0,70 | -0,70 | -0,43 | 0,71 | 1,00 |
Утверждение С. А. Нефедова, что улучшение санитарно-гигиенических навыков являлось главной причиной увеличения длины тела, убедительнее и нагляднее всего опровергается следующими фактами. Во-первых, снижение смертности под влиянием гигиены обнаружилось только с 1890-х гг., а средний рост и вес почти непрерывно увеличивались с конца XVIII в. до начала ХХ в., особенно заметно в пореформенный период4. Следствие – увеличение роста, не может предшествовать причине – снижению смертности и улучшению гигиены.
Во-вторых, прогресс был на самом деле скромным, как и уменьшение смертности. Борьба с инфекционными заболеваниями обычно ведется по трем направлениям: нейтрализация источника инфекции, перерыв путей передачи возбудителя и повышение невосприимчивости населения к инфекции. Главное средство обезвреживания источника инфекции – изоляция, госпитализация и лечение больного. Передача инфекции прерывается путем соблюдения правил личной гигиены, санитарного благоустройства жилищ, упорядочивания водоснабжения, удаления и обезвреживания нечистот и отбросов, выполнения санитарных правил при транспортировке и обработке пищевых продуктов, а также путем борьбы с мухами. По ряду причин трудно разорвать механизм передачи при инфекциях дыхательных путей. Невосприимчивость к инфекциям повышается посредством иммунизации населения, которая положительно себя зарекомендовала в борьбе с оспой, дифтерией, коклюшем, столбняком, бешенством, чумой, сибирской язвой и некоторыми другими болезнями. Для профилактики дизентерии, скарлатины, вирусного гепатита и других болезней эффективной вакцины не существует до сих пор (Безденежных 1981: 63, 71, 211).
В каком состоянии находилась борьба с инфекционными заболевания в пореформенной России? Важнейший способ нейтрализация источника инфекции – изоляция больного, имел весьма ограниченное значение, так как материальные и кадровые возможности российских больниц даже в конце XIX – начале ХХ в. были невелики. В 1881 г. во всех больницах гражданского ведомства в 50 губерниях Европейской России имелось лишь 44549 коек или 5,8 на 10000 жителей, в 1913 г. – соответственно 227868 и 15,9, что сравнительно с СССР в 1985 г. (129,6 на 10000) было в 17,5 раза меньше в 1881 г. и в 8,2 раза меньше в 1913 г. Вследствие чего даже в 1913 г. 80% больных тифом оставались вне больничного лечения (Рашин 1956: 209). Число врачей на 10000 человек населения за 1881–1912 г. увеличилось с 0,5 до 1,5, но и в 1912 г. один врач приходился на 6,7 тыс. жителей, а 72% врачей проживали в городах и только 28% – в деревне (Сб. свед. 1884: 66–67; Отчет о состоянии народного здравия. 1914.: VI; Стат. ежегод. России. 1916: отд. 3, с. 1–6). В СССР в 1985 г. врачей было в 28 раз больше – 42 на 10000 (Охрана здоровья. 1990: 114). Прогресс в совершенствовании врачебной помощи стал заметен с 1880-х гг., что хорошо видно из следующих данных. До введения земств в 50 губерниях Европейской России действовало 350 больниц Приказа общественного призрения с 11,5 тыс. коек (Ковалевский 1900: 918). В 1870 г. только в уездах 34 земских губерний имелось 530 врачебных участков и 1350 самостоятельных фельдшерских пунктов, работало 613 врачей, по 0,13 на 10000 жителей, число больничных коек составляло 1,5 на 10000, а один врачебный участок обслуживал в среднем 95 тыс. человек (Веселовский 1918: 20; Френкель 1913: 119–122).
Средства блокирования передачи возбудителя инфекции в конце XIX–начале ХХ в. ограничивались распространением средств личной гигиены и санитарной обработки предметов обихода, одежды и белья, так как прочие методы (водопровод, канализация и др.) были дорогостоящи и получили распространение лишь в некоторых крупных городах. К тому же только с инфекционными болезнями, которые вызывались возбудителями, передающимися контактно-бытовым или трансмиссивным путем (через укус вшей, блох, комаров), средства гигиены имели важное значение. К первому типу инфекционных болезней относятся дизентерия, брюшной тиф, полиомиелит, вирусный гепатит, холера, ко второму – сыпной и возвратный тиф, чума, малярия, лихорадки. Возбудители огромного большинства инфекционных заболеваний (гриппа, воспаления легких, кори, натуральной и ветряной оспы, дифтерии, коклюша, скарлатины, туберкулеза и других) передаются воздушно-капельных путем, т.е. главным образом через воздух. В этом случае передача инфекции через предметы обихода, загрязненные выделениями больного, имеет второстепенное значение. В борьбе с этими болезнями личная гигиена не имеет первостепенного значения, так же как и в отношении большинства кожно-венерических болезней. Среди всех инфекционных заболеваний доля тех, в профилактике которых личная гигиена имела значение, равнялась около половины5.
В пореформенное время с помощью вакцинации боролись только с оспой; прививкам подвергались в 1881 г. 45% новорожденных, в 1910 г. – 78%. Однако ввиду неполного охвата населения прививками, а, возможно, и невысокого качества вакцинации, смертность от оспы оставалось большой: в 1901–1910 гг. от оспы умерло 414 тыс. чел. (Рашин 1956: 209). Против остальных болезней вакцины в России начала ХХ в. еще не было, а эффективной защиты против дизентерии и скарлатины не существует до сих пор. С 1880-х гг. с помощью прививок стали бороться также с бешенством, но смертность от этого заболевания была сравнительно невелика.
Санитарное просвещение сельского населения только в начале ХХ в. приобрело значительный размах под руководством санитарных попечительств, которые издавали листовки и брошюры, устраивали народные чтения и беседы со световыми картинами и передвижные выставки (Мирский 1996: 329–333).
Борьба с инфекционными и паразитарными заболеваниями словом и делом приносила плоды. Их доля среди всех зарегистрированных болезней в 1885–1887 гг. (за более раннее время источники не позволяют оценить долю смертей от инфекционно-паразитарных заболеваний) составляла в России 28,7% (Отчет Медицинского департамента. 1887–1889), а в 1908–1912 гг. – 24,5%6 (Отчет о состоянии народного здравия. 1910–1914). За 23 года эта доля уменьшилась на 4,2%. O влиянии прогресса медицины и гигиены на уменьшение смертности от острых заразных заболеваний (оспы, скарлатины, дифтерии, кори, коклюша и тифов) можно судить по изменению доли умерших от этих заболеваний: с 1891–1895 гг. до 1911–1914 гг., когда только и наблюдалось устойчивое снижение смертности (Новосельский 1916а: 180–187), она сократилась с 18,4 до 11,5% – на 6,9%7 (Новосельский 1916: 70). Таким образом, доля умерших от инфекционных и паразитарных заболеваний уменьшилась на 4,2%, а от острых заразных заболеваний - на 6,9% – это и есть реальный, но несомненно скромный вклад улучшения медицинского обслуживания, санитарной пропаганды и личной гигиены в уменьшение заболеваемости и смертности.
В западноевропейских странах борьба за здоровье населения началась раньше, проходила с большим размахом и дала лучшие результаты. Например, в Англии и Уэльсе доля умерших от всех инфекционных и паразитарных заболеваний с 1848–1854 гг. до 1901 г. уменьшилось с 59,4% до 50,0% (Kunitz 1986: 283), а доля новорожденных мальчиков, умерших от этих заболеваний, с 1861 г. по 1921 г. – с 23,0% до 10,9%8 (Вишневский 2005: 64). Коэффициент общей смертности с 1850-х гг. по 1900-е гг. уменьшился с 34,1 до 28,7 промилле, а средняя продолжительность жизни увеличилась с 42 до 53,5 лет (Миронов 2003б: 379, 381). Несмотря на значительные успехи в санитарно-медицинской сфере, средний рост британских мужчин, рожденных между 1840–1859 гг. и 1860–1879 гг. не изменился, а между 1880–1899 и 1900–1919 гг. уменьшился на 3 см (см. Табл. 3):
Табл. 3. Рост взрослого мужского населения в Великобритании в 1800-1919 гг.
(в см в годы рождения)
| Годы рождения | 1800–1819 | 1820–1839 | 1840–1859 | 1860–1879 | 1880–1899 | 1900–1919 |
| Британия | 171 | 173 | 172 | 172 | 174 | 171 |
| США | 172,9 | 172,9 | 171,3 | 170,4 | 169,5 | 171,7 |
Источник: Floud 1998: 34; Costa, Steckel 1997: 72.
В США доля смертей от инфекционных заболеваний с 1856–1860 гг. по 1891–1895 гг. уменьшилась с 49,7 по 33,7% (Kunitz 1986: 286), коэффициент общей смертности с 1850-х гг. по 1900-е гг. – с 19,5 до 15,8 промилле, а средняя продолжительность жизни увеличилась с 40 до 50 лет (Миронов 2003б: 379, 381). В то же время средний рост американских мужчин во второй половине XIX в. уменьшился. Пример Великобритании и США наглядно показывает, что прогресс в медицине и санитарии отнюдь не обеспечивает увеличение роста и повышение биостатуса населения.
И последнее. Если бы, как утверждает С. А. Нефедов, улучшение санитарно-гигиенических навыков являлось главной причиной увеличения длины тела, и при этом сопровождалось ухудшением жизненных условий (прежде всего питания), то это должно было бы иметь два следствия: (1) прибавка роста у населения по губерниям находилась бы в прямой зависимости от их географического расположения – чем восточнее губерния, тем меньше увеличение длины тела, и наоборот – чем западнее, тем больше ее увеличение, (2) увеличение длины тела при голодании должно было сопровождаться развитием дистрофии и снижением индекса массы тела. В действительности происходило все наоборот. Как показывает корреляционный анализ, между местоположением губерний и прибавкой в них роста новобранцев с 1851-1855 гг. до 1892-1897 гг. связь вообще отсутствовала (r = -0,01). В пореформенное время, как показано выше, увеличивался рост и вес, а индекс массы тела находился в норме.
Таким образом, успехи медицины и гигиены в пореформенной России несомненно наблюдались, но они были ограничены во времени, 1881–1913 гг., и недостаточны, чтобы произвести такие фундаментальные изменения в здоровье и санитарных условиях жизни, которые бы могли обусловить значительное увеличение роста населения (на 5,1 см), начавшееся к тому же задолго до того, как этот прогресс стал приносить свои плоды. Для сравнения укажем, что в СССР 1920-х – 1930-х гг. успехи в улучшении медицинского обслуживания, личной гигиены и повышении общей культуры населения были намного больше, чем в 1886–1913 гг. Несмотря на это, рост мужчин от 1911–1915 гг. к середине 1930-х гг. уменьшился на 2 см ввиду понижения уровня жизни (Миронов 2008в).
Причина слабой корреляции между демографическими процессами и потреблением заключается не в прогрессе медицины, а в том, что величина продовольственного хлеба, вычисленная С. А. Нефедовым по официальным сведениям о сборах хлебов и перевозках в отдельных губерниях, не соответствовала действительности: урожайная статистика существенно занижала производство зерновых, а статистика перевозок – искажала их избытки и недостатки. Не отличалась безупречной точностью и губернская демографическая статистика.
Совершенно прав Ст. Хок (Хок 1996: 45–47) и другие исследователи мальтузианской ориентации, которые (в полном соответствии с разделяемой ими концепцией) ускорение естественного прироста населения с 12,3 промилле в 1866–1870 гг. до 16,8 промилле в 1911–1913 гг. (Рашин 1956: 218) рассматривают в качестве доказательства роста потребления и уровня жизни российского крестьянства. Но самое поразительное, пожалуй, состоит в том, что и С. А. Нифонтов, на которого С. А. Нефедов, как ему кажется, опирается, как на каменную стену, делает вполне оптимистическое и в принципе верное заключение о развитии российского сельского хозяйства, которое в корне противоречит схеме С. А. Нефедова: «Зерновое производство в капиталистической России развивалось постепенно в ускорявшемся до конца XIX в. темпе. В 60-х годах это развитие было малозаметным, за
70-е годы – вырисовывалось яснее и в 80-х – 90-х годах определилось окончательно. Это сказывалось в постоянном расширении хлебных посевов, в неуклонном усилении хлебных сборов, в ускорявшемся повышении урожайности зерновых, во все большей порайонной специализации зернового производства и развитии его товарности» (Нифонтов 1974: 315). Между прочим и Ст. Уиткрофт, которого С. А. Нефедов по недоразумению зачисляет в свои сторонники, на самом деле его не поддерживает, так как утверждает с фактами в руках, что уровень жизни в российской деревне в позднеимперской России повышался, за исключением 1891–1893 и 1905–1908 гг. (Wheatcroft 1991: 171–172), и что именно рост благосостояния, а не мыло и карболка, как приписывает ему С. А. Нефедов, было истинной причиной увеличения среднего роста населения (Wheatcroft 1999: 41–45, 59–60).
Таким образом, ленинская схема происхождения экзистенциального кризиса в позднеимперской России, которую отстаивает С. А. Нефедов, входит в противоречие с фактами – уменьшением смертности, увеличением естественного прироста населения, ростом грамотности, улучшением медицинского обслуживания, улучшением антропометрических показателей (роста и веса), повышением уровня жизни, увеличением расходов на алкоголь, быстрым ростом валового внутреннего продукта благодаря прогрессу промышленности и сельского хозяйства. Соответственно и реанимируемая С. А. Нефедовым ленинская концепция революции 1917 г. с точки зрения теоретической, методической и источниковедческой также не выдерживает критики. Как мыло и карболка не обеспечивают поддержание жизни, поскольку не дают человеку энергии, так и ленинская интерпретация пореформенного развития России не обеспечивает объективного и адекватного научного анализа, поскольку, будучи классовой, политизированной и идеологизированной, не адекватна фактам и не удовлетворяет критериям истины.
Б. Н. Миронов
http://bmironov.spb.ru/sochist.php?mn=2&lm;=1&lc;=art19
Библиография
Анфимов А. М. 1962. Российская деревня в годы мировой войны (1914 – февраль 1916 г.). М.: Издательство социально-экономической литературы.
Баткис Г. А., Лекарев Л. Г. 1961. Теория и организация советского здравоохранения. М.: Медгиз.
Безденежных И. С. 1981. Эпидемиология. 4-е изд. М.: Медицина.
Вайнштейн А. Л. 1960. Из истории дореволюционной статистики животноводства. Очерки по истории статистики СССР / Т. В. Рябушкин (ред.). М.: Госстатиздат. С. 86–115.
Вишневский А. Г. 2005. Избранные демографические труды. Т. 1. М.
Веселовский Б. Б. 1918. Земство и земская реформа. М.: О. Н. Попов.
Вильсон И. И.1869. Объяснений к хозяйственно-статистическому атласу Европейской России. 4-е изд. СПб.: В. Безобразов и Ко.
Грегори П. 2003. Экономический рост Российской империи (конец XIX – начало ХХ в.) Новые подсчеты и оценки. М.: РОССПЭН.
Давыдов М. А. 2003. Очерки аграрной истории России в конце XIX-начале ХХ в. М.: Издательский центр РГГУ.
Движение населения. 1896–1900. Движение населения в Европейской России за [1891–1895] год. СПб.
Дятлова Н. П. 1964. Отчеты губернаторов как исторический источник. Проблемы архивоведения и источниковедения: Материалы научной конференции архивистов Ленинграда 4-6 февраля 1964 г. / В. В. Бедин (ред.). Л.: Наука. С. 227–246.
Ермолов А. С. 1909. Наши неурожаи и продовольственный вопрос: В 2 ч. Ч. 1.Продовольственное дело в прошлом и настоящем. СПб.: В. Киршбаум.
Жолус Б. И. (Ред.). 1997. Общая и военная гигиена. СПб.: Военно-медицинская академия.
Ковалевский В. И. (Ред.). 1900. Россия в конце XIX века. СПб.: Брокгауз-Ефрон.
Ковальченко, И. Д. 2004. Аграрный стой России второй половины XIX - начала ХХ в. М.: РОССПЭН.
Литвак, Б. Г. 1979. Очерки источниковедения массовой документации XIX-начала ХХ в. М.: Наука.
Мальтус Т. 1993. Опыт о законе народонаселения. 5-е изд. (1817 г.) // Антология экономической классики. М.: «Эконов», «Ключ».
Материалы Комиссии. 1903. Материалы высочайше утвержденной 16 ноября 1901 года Комиссии по исследованию вопроса о движении с 1861 г. по 1900 г. благосостояния сельского населения среднеземледельческих губерний сравнительно с другими местностями Европейской России. В 3 ч. Ч 3. СПб: П. П. Сойкин.
Миронов Б. Н.2003а. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. 3-е изд. Т. 1. СПб.: Дм. Буланин.
Миронов Б. Н.2003б. То же. Т. 2.
Миронов Б. Н. 2008а. Достаточно ли производилось пищевых продуктов в России в XIX – начале ХХ в.? Уральский исторический вестник 3: 81–95.
Миронов Б. Н. 2008б. Системный кризис в России в царствование Николая II – факт или артефакт? Император Николай II и его время: Сборник материалов Всероссийской научно-просветительской конференции с международным участием / В. В. Алексеев и др. (ред.). Екатеринбург: Институт истории и археологии УрО РАН. С. 23–45.
Миронов Б. Н. 2008в. Когда на Руси жилось хорошо. Родина 8.
Мирский М.Б. 1996. Медицина России XVI–XVIII веков. М.: Росспэн.
Моргенштерн О. 1968. О точности экономико-статистических наблюдений. М.: Статистика.
Нифонтов А. С. 1974. Зерновое производство в России во второй половине XIX века. М.: Наука.
Новое Положение. 2003. Новое Положение о военно-врачебной экспертизе: Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2003. № 123. М.: Дашков и Ко.
Новосельский С. А. 1916. Обзор главнейших данных по демографии и санитарной статистике России // Календарь для врачей всех ведомств на 1916 год. СПб.: К. Л. Риккер.
Отчет Медицинского департамента. 1887–1889. Отчет Медицинского департамента за [1885-1887] год. СПб.: Тип. МВД.
Отчет о состоянии народного здравия. 1913-1915. Отчет о состоянии народного здравия и организации врачебной помощи в России за [1911-1913] год. СПБ.: Тип МВД.
Охрана здоровья. 1990. Охрана здоровья в СССР: Статистический сборник. М.: Финансы и статистика.
Покровский В. И. 1902. Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли России. Т. I / В. И. Покровский (ред.). СПб.: М. П. Фролова.
Предварительные данные. 1917. Предварительные данные о площадях посева зерновых культур в 57 губерниях и областях империи в 1916 г. Пг.
Производство. 1917. Производство, перевозки и потребление хлебов в России / Е. Е. Яшунов, П. Румянцев (ред.): В 2 вып. Пг.: Ис. Ф. Вайсберг. Вып. 2.
Рашин А. Г. 1956. Население России за 100 лет. М.: Госстатиздат.
РГИА. 1869. Российский гос. ист. архив, ф. 1263 (Комитет министров), оп. 1, д. 3402.
Сб. свед. 1884. Сборник сведений по Европейской России за 1882 год. СПб.: Тип. МВД.
Сб. стат.-эк. сведений. 1917. Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Год десятый. Петроград: Ис. Ф. Вайсберг.
Сел. хоз. России в ХХ веке. 1923. Сельское хозяйство России в ХХ веке: Сборник статистико-экономических сведений за 1901-1922 гг. / Н. П. Огановский, Н. Д. Кондратьев (ред.). М.: .
Стат. сб. 1921. Статистический сборник за 1913-1917 гг. Вып. 1. М.: 14-я гос. типография.
Струмилин С. Г. 1979. Статистика и экономика. М., Наука: 232-238.
Френкель З. Г. 1913. Очерки земского врачебно-санитарного дела (По данным работ, произведенных для Дрезденской и Всероссийской гигиенических выставок). СПб.: Тип. Акц. Об-ва «Слово».
Чаянов А. В. 1989. Крестьянское хозяйство: Избранные труды. М.: Экономика.
Челинцев А. Н. 1923. Сельскохозяйственная география России. Берлин: Feilchenfeld’s Buchdruc.
Яцунский В. К. 1961. Изменения в размещении земледелия в Европейской России с конца XVIII века до Первой мировой войны // Вопросы истории сельского хозяйства, крестьянства и революционного движения в России / В. К. Яцунский (ред.). М.: Изд АН СССР. С. 113–148.
Яцунский В. К. 1973. Социально-экономическая история России XVIII–XIX вв. М.: Наука. С. 268–297.
Costa D. L., Steckel R. H.1997. Long-Term Trends in Health, Welfare, and Economic Growth in the United States. Health and Welfare during Industrialization / R. H. Steckel, R. Floud (eds.). Chicago – London: The University of Chicago Press.
Falkus M. E. 1968. Russia’s National Income, 1913: A Re-evaluation. Economica 35.
Floud R. 1998. Height, Weight and Body Mass of the British Population since 1820. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research (NBER Working Paper Series on Historical Factors in Long Run Growth. Historical Paper 108).
Floud R., Harris B. 1997. Health, Height, and Welfare: Britain, 1700–1980. Health and Welfare during Industrialization / R. H Steckel, R. Floud (eds.). Chicago; London: The University of Chicago Press.
Hoch S. 1994. On Good Numbers and Bad: Maltus, Population Trends and Peasant Standard of Living in Late Imperial Russia. Slavic Review 53: 41-75.
Kunitz St. J. 1986. Mortality since Malthus. The State of Population Theory: Forward from Malthus / D. Coleman and R. Schofield (eds.). New York: Basil Blackwell.
Simms J. 1977. The Crisis in Russian Agriculture at the End of Nineteenth Century: A Different View. Slavic Review 36: 377–398.
Wheatcroft St. 1974. TheReliability of Russian Prewar Grain Output Statistics. Soviet Studies 26/2: 157–180.
Wheatcroft St. 1991. Crises and the Condition of the Peasantry in Late Imperial Russia. Peasant Economy, Culture and Politics of European Russia / E. Kingston-Mann and T. Mixter (eds.). Princeton: Princeton University Press. P. 128–172.
Wheatcroft St. 1999. The Great Leap Upwards: Anthropometric Data and Indicators of Crises and Secular Change in Soviet Welfare Levels, 1880–1960. Slavic Review 58: 27–60.