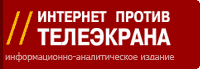Метод исторического материализма заставляет предположить, что явные изменения в идеологической сфере советского общества не могут не указывать на соответствующие изменения в базисе общества или в способе материального производства. И, действительно, с 60-х годов в реальную жизнь СССР вторгается фактор, который теперь будет оказывать лишь возрастающее влияние на развитие советской цивилизации. Имеется в виду так называемая «вторая, теневая экономика». К 80-м годам западные советологи пришли к выводу, что, несмотря на официальные декларации о государственном характере советской экономики, реальная экономика СССР была скрыто многоукладной и что неформальное, неконтролируемое государством хозяйствование играло в нем не меньшую роль, чем экономика официальная. Судя по всему, этим заявлениям вполне можно доверять, во всяком случае, их еще, кажется, никто всерьез не оспаривал. Замечательно, что появление теневой экономики как существенного, значимого феномена советского реального общественного бытия приходится именно на 60-70-е годы (первые исследования феномена советского черного рынка появились в 1977 году, тогда была опубликована классическая работа Грегори Гроссмана «Вторая экономика в СССР, понятно, что к этому времени эта вторая экономика уже завершила в общих чертах свое формирование), и именно в это же время развивается в среде интеллигенции подспудная антисоветская идеология, альтернативная марксистскому официозу. Анализ причины возникновения теневой экономики выходит за рамки нашей работы, мы можем лишь указать на то, что, возможно, это связано с началом разрушения советской общины, основывавшейся на патриархально-крестьянских ценностях, в период массовой послевоенной урбанизации.
Что же из себя представляла советская «теневая экономика»? Американский исследователь А. Кацелинбойген выделял в ней полулегальный сектор («серый рынок») и нелегальный сектор («коричневый» и «черный рынок»). Важно заметить, что наряду с ними существовал и «белый» сектор, то есть легальный советский рынок, где, скажем, садовод мог свободно продать произведенную его собственными руками сельхозпродукцию с разрешения государства.
Нелегальные и полулегальные рынки охватывали собой деятельность спекулянтов, которые, пользуясь личными связями, скупали дефицитные товары по госцене и перепродавали их по свободной; цеховиков, которые в подпольных производствах делали дефицитную продукцию и выбрасывали ее на рынок, распространяя, допустим, через те же госмагазины, но «из-под прилавка» и т.д., и т.п. Так называемые «диссидентские обществововеды» (в частности, С. Кордонский) вводят также понятие «административного рынка», где в качестве «товара» выступала должность, те или иные привилегии, личные связи и т.д. Иными словами, административный рынок был «иерархизированной, синкретичной системой (где экономический и политический компоненты даже аналитически не могли быть разделены), в которой социальные статусы и потребительские блага конвертируются друг в друга по определенным, отчасти неписанным правилам, меняющимся во времени».
Практически все исследователи охотно отмечают, что теневой рынок был теснейшим образом связан с административной, плановой экономикой, но они подчеркивают, как правило, лишь одну сторону этой связи – трудность функционирования госэкономики без теневого «довеска». Диссидент Лев Тимофеев вообще считает, что нелегально сформировавшиеся в позднем СССР рыночные отношения есть «нормальная», «естественная» форма экономики, которая составляла «живую альтернативу» плановому хозяйству. Он пишет уже в наши дни: «От «социалистического сектора экономики», который вообще никогда не существовал в чистом виде, к началу 80-х … мало что осталось: вся цепочка управления экономикой, … и межотраслевые связи в том числе были сверху донизу коррумпированы и пронизаны отношениями «черного рынка»… Но как ни парадоксально, именно «черный рынок» и обеспечивал более или менее нормальный производственный процесс… Не для того ли и реформы, чтобы снять назревшее противоречие между оболочкой и содержанием – именно в пользу здравых рыночных отношений и частной собственности». Французский исследователь российского происхождения А. Олейник свободен от родовых перехлестов диссидентского сознания и в оценках советской цивилизации более спокоен и объективен, но и он пишет: «Нелегальная экономика или теневой рынок была одновременно и чуждым, и жизненно необходимым элементом советской экономической системы. С одной стороны нелегальная экономика обеспечивала горизонтальное взаимодействие предприятий, альтернативное посредничеству и контролю со стороны государственных органов. С другой стороны командная экономика не могла функционировать без постоянного обращения экономических агентов к нелегальным практикам…… для успешного выполнения плана требовалось обращаться к нелегальным практикам снабжения».
В то же время ими почти не обращается внимание на обратную зависимость — теневой советской экономики от экономики официальной, плановой и от государства вообще. Непонимание этой обратной зависимости и порождает либеральные мифы «а ля Лев Тимофеев» о зарождение в недрах советского общества «частных собственников западного типа» и о необходимости их «освободить». Попытка проведения экономических реформ, исходя из этих мифов (а данные тезисы Тимофеева, несмотря на его личное позиционирование себя как православного патриота, имели широкое хождение среди самых радикальных либералов-западников вроде Чубайса и Гайдара), и привела к возникновению в России бандитского и компрадорского капитализма, а не ожидаемого реформаторами капитализма «цивилизованного», «западного». Вместе с тем и крупный советский спекулянт, и теневой производственник – цеховик не могут априрори считаться частными собственниками, потому что они не владеют товарами и средствами производства, они их используют антизаконно, по сути дела, похищая их у государства. А на вора по определению не распространяется право собственности, он может быть лишь фактическим и незаконным обладателем украденной им вещи.
Это не публицистический перехлест, а реальное положение дел в советской теневой экономике. Вся деятельность советских теневиков строилась именно на хищениях госсобственности, совершенным либо прямо, либо в скрытом виде. Спекулянт незаконно скупал на базе по госцене дефицитный товар (например, по сговору директором базы, который оформлял этот товар как испорченный при транспортировке). Цеховик также использовал краденное, похищенное у государства сырье (например, ткань для джинсов, которые на рынке будут выдавать за «сделанные в США»). Более того, цеховик нелегально и незаконно использовал станки и оборудование, принадлежавшие государству, и даже крал у государства рабочую силу (ведь физическая сила, здоровье, профессиональные навыки человека советского общества априори принадлежали государству). Таким образом, советский теневой «капитализм» изначально нес откровенный криминальный оттенок в сущности своей и его связь с настоящим криминальным миром – миром, где правили «воры в законе», оформляется уже тогда в позднесоветские годы.
Итак, в постклассическом СССР в реальном материальном бытии появляется еще один персонаж – теневик, делец, цеховик. Он противостоял уже известным нам классическим представителям советского производства – членам трудовых коллективов, как хорошим, работящим, так и плохим – лодырям и тунеядцам. Советский лодырь увиливал от работы, делал ее некачественно, мог даже стащить с завода деталь, но эпизодически и сугубо для себя – для садового участка, для собственного автомобиля, в крайнем случае, чтоб продать за бутылку водки за проходной. Советский теневик превратил эти хищения в систему и при помощи них делал деньги (при содействии коррумпированных госчиновников), создавал и приводил в действие механизм черного рынка – довеска к официальной экономике. Это уже был серьезный сдвиг в общественном бытии, который не мог не отразиться идеологически в общественном сознании. Причем, легко заметить, что система ценностей советского псевдолиберализма и есть идеологическое отражение реального общественного бытия и общественных отношений прослойки советских теневиков-дельцов. В самом деле, в своей реальной жизни теневой делец считал себя умным, инициативным, практичным человеком, не упускающим свою выгоду, а честных трудяг с советских заводов презирал, почитая их за «быдло». В идеологической сфере эта уверенность отражается в виде тезиса о том, что собственник и предприниматель – соль земли, движитель исторического прогресса, капитализм – общество таких собственников – наилучший строй в истории, социализм – общество трудяг – исторический тупик. Причем, антисоветский идеолог представлял себе западный капитализм именно таким, каким он должен бы быть, чтобы в нем прижились советские теневики — циничные полукриминальные дельцы. Строго говоря, такой западный капитализм имел мало общего с реальным западным капитализмом, например, в ханжеской и помешанной на законопослушности Америке такие дельцы – якшающиеся с преступниками и ведущие свой бизнес при помощи приемов преступного мира точно также оказались бы за решеткой, как и в СССР. Но зато этот образ капитализма чудесным образом совпадал с его образом из вульгарной советской пропаганды. Антисоветский идеолог лишь менял здесь нравственные оценки, то есть стремился оправдать цинизм, корыстолюбие, правовой нигилизм дельцов и очернить честность и солидаризм простых трудящихся, причем, и в том, и в другом случае при помощи сугубо истсматовского тезиса об экономической эффективности как главном критерии прогресса (и при истматовском игнорировании критерия эффективности социальной).
Зависимость теневого дельца от плановой экономики (ведь он крадет продукцию, принадлежащую государству и количество украденного зависит от количества запланированного госорганами) идеологически отражается в тезисе псевдолиберализма об универсальных законах экономики, исключающих самобытное развитие того или иного народа; точно также как зависимость трудящихся на госпредприятиях от Госплана в их реальной, производственной жизни отражается в сознании вульгарного советского марксиста в виде тезиса об универсальности и неизменности законов истории. Наконец, ненависть теневого дельца к государству, в котором он видит своего врага, карающего его строжайшим образом за такую «естественную» и «безобидную» тягу к воровству и спекуляции фантастически отражается в разного рода разглагольствованиях антисоветских идеологов о преступлениях Ленина, Сталина, КПССС перед собственным народом и т.д., и т.п. Сами эти идеологи пытаются все представить так, что они выступают против «бесчеловечного коммунизма» исходя сугубо из христианских ценностей и гуманизма. Все современники «застоя» и «перестройки» помнят должно быть, рассуждения наших записных либералов о «слезинке ребенка», которая-де аннулирует ценность любого самого лучшего общества (имелось в виду, разумеется, общество социалистическое). Но показательно, что те же либералы (Попов, Старовойтова, Гайдар, Чубайс, а вслед за ними и Немцов с Хакамадой) открыто оправдывали обнищание большой части народа, преступления, совершаемые новой российской буржуазией, а также преступления буржуазии западной, совершаемые в колониях, и не вспоминали при этом ни о гуманизме, ни о христианстве, ни о слезинке ребенка. Перед нами не простое лицемерие, а определенная идеологическая логика . Ленин и Сталин – представители государства, и репрессии были направлены на усиление государства, а государство, согласно советскому псевдолиберализму, должно быть максимально ослабленным и выведенным из всех сфер общественной жизни, откуда только возможно. Российские кооператоры и приватизаторы и западные колонизаторы осуществляли кражи, грабежи, мошенничество и даже массовые убийства, но здесь преступления исходят не от государства, а от частного лица, бизнесмена, и их следствием должна стать, по мысли либералов, экономическая эффективность.
Напоследок мы считаем необходимым напомнить, что отношения между идеологом и тем субъектом материального производства, интересы которого выражает идеолог, почти всегда сложны, неоднозначны и даже противоречивы. Идеолог может не понимать, и как правило, действительно, не понимает: в чьих интересах он идеологизирует. Более того, чисто субъективно он может испытывать даже отвращение к представителям реальной социальной базы своей идеологии. Ведь идеология – ложное сознание, и идеолог считает, что он высказывает некие вечные и универсальные истины, а вовсе не теоретически систематизирует мироощущение какого-либо социального слоя. Дело обстоит не так, что к идеологу буржуазии приходит буржуа и говорит: создай за определенную плату идеологию, оправдывающую меня. Такая система тезисов и не была бы идеологией, во всяком случае в устах того, кто ее заказал и создал. В идеологию должны верить, только тогда она становится идеологией в полном смысле слова, и только тогда она может овладеть умами масс, которые скоре верят искренним идеологам, чем завравшимся конъюнктурщикам. Образование идеологии происходит иначе. Интеллигент, который по природе своей выполняет роль «социального барометра», улавливает чутким сознанием изменения в ценностной структуре общества, порожденные изменениями в его реальном, общественном бытии и преобразует их в статьи, концепции, романы, песни. Причем, связь между идеологией и общественным бытием, с точки зрения марксизма, диалектична, взаимна, уже созданная идеология оказывает влияние на соответствующую группу, участвующую в материальном производстве, укрепляя ее, расширяя ее реальное влияние и т. д.
Итак, мы осознаем, что многие из романтиков советского поколения 60-х и из романтиков перестройки были бы шокированы, если бы им сказали, что в своих «критических» выступлениях они объективно выражают интересы криминальных, теневых дельцов, барыг и спекулянтов и в своих песнях, стихах, романах и статьях объективно формулируют идеологию, которая теоретически, эстетически и экзистенциально обосновывает мировоззрение и мирочувствование теневика-спекулянта. Интеллигент-романтик при этом с возмущением воскликнул бы: «это невозможно! Где связь между благородными и возвышенными песенками Окуджавы о комиссарах в пыльных шлемах и низким, корыстным спекулянтом, из-под полы продающим втридорога кофе? Мы, шестидесятники, ненавидим мещан не меньше, чем «левые»!» Но искомая связь все же есть, хотя она, повторим, неоднозначная и диалектичная, и если бы этой связи не было, тогда многие из тех, кто в 60-х распевали о комиссарах в пыльных шлемах не становились бы вполне безболезненно, без душевной ломки в 80-х аферистами-теневиками и кооператорами и в 90-х – банкирами и олигархами. Эта связь состоит в идее индивидуализма. Только в случае песни Окуджавы – это индивидуализм, идеологически прикрытый революционной романтикой, а в случае спекулянта – возведенный в жизненный принцип и принявший конкретное экономическое выражение. Обратим внимание, что героизация Революции у Окуджавы имеет существенные отличия от официальной ее героизации в песнях эпохи самой Гражданской войны. Так, у Окуджавы:
Я все равно паду на той,
На той единственной Гражданской,
И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся тихо надо мной
А в раннесоветской, революционной песне
Мы — красные кавалеристы и про нас
Былиники речистые ведут рассказ
Эта центральная роль «Я» у Окуджавы в принципе невозможна в дискурсе реальной гражданской войны, и это «Я» хорошо объясняет: почему «комиссары в пыльных шлемах» «той единственной Гражданской» в сознании некоторых поклонников Окуджавы легко превратились в братков в смокингах и кроссовках «той единственной Приватизации». Хотя мы, конечно, согласны с тем, что сам Окуджава и многие другие его поклонники могли не питать теплых чувств к этим барыгам и браткам.
Эта сложность, диалектичность связи между идеологией и ее реальной социальной базой прекрасно понималась Карлом Марксом, чего не скажешь о некоторых его нынешних сторонниках. Маркс писал: «Не следует думать, что все представители демократии – лавочники или поклонники лавочников. По своему образованию и индивидуальному положению они могут быть далеки от них, как небо от земли. Представителями мелкого буржуа их делает то обстоятельство, что их мысль не в состоянии преступить тех границ, которых не преступает жизнь мелких буржуа, и потому теоретически они приходят к тем же самым задачам и решениям, к которым мелкого буржуа приводит его материальный интерес».